|
"ТУРИНСКАЯ ЛОШАДЬ" 2011
| |
| Александр_Люлюшин | Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 23:15 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 3346
Статус: Offline
| Кажется, лучше, чем в этом гипнотическом кино, о конце света и не скажешь. И смысла нет говорить. И не хочется. Потому ещё до выхода фильма венгерский всадник апокалипсиса Бела Тарр заявил, что его «Туринская лошадь» станет последней работой в кино. Лаконично, монотонно, угнетающе, жутко он рисует нам обесцененный и потому во всех смыслах чернеющий мир, наводя тем самым вселенскую печаль и непреходящую скорбь. Проживая вместе с героями день за днём, мы приближаемся к страстной пятнице и всей сущностью начинаем ощущать беззвучное воплощение знаменитого изречения Ницше «Бог умер». И, правда, погас Свет. Страшно... Чтобы, возможно, каждый произнёс вслед за немецким мыслителем: «Мама, я был глупцом».
«ТУРИНСКАЯ ЛОШАДЬ» («A torinói ló») 2011, Венгрия-Франция-Германия-Швейцария-США, 146 минут
— экзистенциальная драма венгерского режиссёра Белы Тарра, вошедшая в 2012 году в список лучших фильмов в истории, составленный журналом Sight & Sound и британским киноинститутом на основании опроса 846 самых известных кинокритиков мира
  
  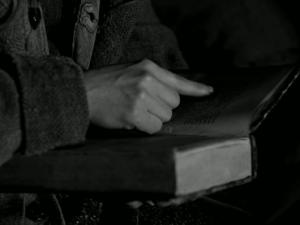
  
В 1889 году на улице итальянского города Турина случилось странное происшествие. Кучер хлестал кнутом свою старую лошадь, которая отказывалась тронуться с места. Неожиданно к повозке подбежал хорошо одетый господин с пышными усами и обнял животное за шею, при этом горько зарыдав. Это был никто иной, как всемирно известный философ Фридрих Ницше. Его с трудом увели от лошади, а когда привели домой, выяснилось, что он не в себе. Ницше поместили в лечебницу для душевнобольных, где он провел остаток жизни… Но что же случилось с лошадью и ее хозяином? Об этом и расскажет фильм.
Съёмочная группа
Режиссёры: Бела Тарр, Агнес Храницки
Сценарий: Ласло Краснахоркаи, Бела Тарр
Продюсеры: Габор Тени, Мартин Хейджманн, Juliette Lepoutre, Мари-Пьер Масиа, Элизабет Редлиф, Майк С. Райан, Рут Вальдбюргер, Кристин К. Уолкер
Оператор: Фред Келемен
Композитор: Михай Виг
Монтаж: Агнес Храницки
В ролях
Янош Держи
Эрика Бок
Михай Кормош
Rics
Режиссёр о фильме
Это фильм о смертности, и родился он из глубокой боли, которую я постоянно испытываю, как и все мы, приговоренные к высшей мере.
Интересные факты
Фильм длится почти 150 минут и при этом использовано всего лишь тридцать монтажных склеек. С помощью этого приёма режиссёр передаёт неторопливый ритм сельской жизни, её ритуальный уклад. В фильме всего два героя, практически не разговаривающие друг с другом. Они держатся друг за друга, и если не станет одного из них — погибнет и второй. Фильм поднимает онтологическую проблему человеческого существования.
Награды
Берлинский кинофестиваль, 2011 год
Победитель: Серебряный Медведь – Гран-при жюри
Победитель: Приз ФИПРЕССИ (конкурсная программа)
Номинация: Золотой Медведь
Смотрите трейлер и фильм
http://vk.com/video16654766_163155730
http://vk.com/video16654766_163155744
|
| |
|
|
| Тамара_Демидович | Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:52 | Сообщение # 2 |

Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
| «Мир унижен, все до одного унижены…»
Еще один фильм, снятый творческим венгерским тандемом Белла Тарр и Агнес Храницкий, снова продемонстрировал особый взгляд на мир. Как и в предыдущих фильмах, несмотря на не маленький хронометраж и малую динамику, что-то удерживает возле экрана. И посмотрев фильм без раздумий не обойтись. И лишь осмыслив все, поймешь, что именно скрывалось за увиденными рутинными простыми действиями.
Итак, отчего же разрыдался Ницше и что же стало с лошадью?
Лошадь, помня побои, но зная свое место, добрела домой, везя хозяина, вынужденного жить, преодолевая трудности, которые обеспечены ему парализованной рукой и не дружелюбной окружающей средой. А дома их встретила дочь, обязанная изо дня в день кормить лошадь, одевать отца, топить печь, варить картошку. Изо дня в день одно и то же. Лишь условия жизни становятся жестче и жестче. Ветер дует все ожесточеннее, однажды исчезнет вода, потом свет. Как реагировать на происходящее? Снова подыматься, снова есть, снова пытаться выбраться? А зачем?
На седьмой день дочь поняла то, что почувствовала лошадь и осознал Ницше, то что за стопкой сказал забредший гость: весь мир унижен, все что мы делаем, мы скорее обречены делать и совершаем под давлением, нежели по желанию и велению сердца, повторяем изо дня в день до неизбежного конца, когда для каждого из нас гаснет свет.
Вот такая умная не веселая философская притча получилась у венгерских режиссеров. И как всегда с ними и в этой картине их любимые актеры: Михай Кормош и Януш Держи. Но этот черно-серый фильм захватывает внимание скорее не актерской игрой, а замыслом и фирменной манерой съемки.
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:32 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Антон Долин. История (не о) лошади
«Туринская лошадь» (A torinоi lо)
Авторы сценария Ласло Краснахоркаи, Бела Тарр
Режиссер Бела Тарр
Сорежиссер Агнеш Храницки
Оператор Фред Келемен
Художник Жиглер Ката
Композитор Михай Виг
В ролях: Янош Держи, Эрика Бок, Михай Кормош
TT Filmuhely, vega Film, Zero Fiction Film, Movie Partners In Motion Film
Венгрия — Франция — Германия — Швейцария — США
2011
Не было гвоздя —
подкова
пропала.
Не было подковы —
лошадь
захромала.
Лошадь захромала —
командир убит.
Конница разбита —
армия
бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
не было гвоздя.
Английская баллада в переводе С.Маршака
Из кабака выходит пьяный извозчик с собутыльниками. Под их гогот он нещадно избивает свою лошадь. Тощая кляча умирает от побоев. В толпе зрителей — безучастных, глумящихся, сочувствующих — семилетний мальчик с отцом. Ребенок бросается к лошади, обнимает и целует ее мертвую голову, заливаясь слезами.
На улице кучер беспощадно хлещет кнутом свою лошадь, ставшую посреди дороги. Подбегает усатый господин и отталкивает его. Он наносит хозяину лошади несколько ударов, потом обнимает измученное животное за шею. Глаза незнакомца полны слез.
Место действия первого сюжета — Санкт-Петербург, время — 1865 год (условное время действия романа «Преступление и наказание») или 1849-й, если принять странный сон Родиона Романовича Раскольникова за реальное воспоминание из его детства. Место действия второго происшествия — Турин, время — 3 января 1889 года. Герой — философ Фридрих Вильгельм Ницше. Эта история правдива, поэтому делать допущения и предположения не нужно. Ницше сорок четыре года, и за оставшиеся одиннадцать лет жизни он больше не придет в сознание, будет помещен близкими в лечебницу для умалишенных и не напишет ни одного полноценного труда.
Неизвестно, читал ли Ницше «Преступление и наказание», хотя к моменту туринского случая роман уже был издан по-немецки под названием Raskolnikov и имел немалый успех. Но Бела Тарр и его верный соратник, писатель Ласло Краснахоркаи (из его миниатюры о Ницше и лошади родился сценарий «Туринской лошади»), наверняка знакомы с Достоевским не понаслышке. Они могли оценить пугающую параллель между двумя оплаканными лошадьми, взвесив как сходства, так и различия.
Приступ сострадания, пережитый во сне, не помешал Раскольникову взять топор и совершить задуманное, раскроив голову старухе процентщице и ее невинной сестре Лизавете. Правда, потом он покаялся. Достоевский верил в возможность и необходимость искупления, а потому дал блаженному персонажу — маляру, взявшему на себя вину в чужом преступлении, — то же имя, что и кучеру-садисту из сна: Миколка.
С Ницше вышло иначе. Всю сознательную жизнь он отрицал доктрину сострадания, не сходясь по этой части ни с Христом, ни с Шопенгауэром. Соблазнительно увидеть в слезах философа раскаяние, но куда логичнее трактовать их как признак умопомешательства, приведшего сифилитика Ницше к необратимому разладу между нижайшими и возвышенными состояниями тела и души (из записей лечащего врача в последующие годы: «Играл на фортепиано. Ел дерьмо»). Жалость к ближнему есть безумие, крайний и отчаянный жест. Капитуляция.
Фильм Тарра существует в невидимом поле напряжения между двумя лошадьми. Режиссер и сценарист исключают из сюжета Ницше, упоминая его только в эпиграфе: остальной фильм — развернутый ответ на вопрос «Что стало с той лошадью?». Тем самым, казалось бы, они отдают дань почтения Федору Михайловичу, а заодно последним полутора столетиям сострадательной литературы и кинематографа: ведь лошадь несчастней человека, она бессловесна и безропотна. Западные рецензенты тут же помянули Брессона с его ослом Бальтазаром, но русские могли бы вспомнить больше примеров. Толстого с «Холстомером» (по мнению Тургенева, Лев Николаевич был лошадью в прошлой жизни), Есенина с жеребенком, бегущим вслед за поездом, Маяковского с «Хорошим отношением к лошадям»… Даже с ослами русские писатели подружились раньше, чем французские режиссеры, — князь Мышкин благодарил за пробуждение к новой жизни именно осла.
В жалости человека к четвероногому всегда ощутимо высокомерие гуманизма; плач Ницше — о чем-то ином. Возможно, о сходстве человеческой участи с судьбой животного. Тут нет места сентиментальности — только знак равенства, однозначный, как приговор. Все испытали «общую звериную тоску». «Каждый из нас по-своему лошадь» — формула, с которой трудно поспорить. Но поднимает ли она животное до предполагаемо высокого уровня человечества или, наоборот, низводит «венец творения» до лошадиного состояния? Растерянные критики отметили этот парадокс, констатировав крайнюю несклонность Тарра к открытой эмоциональности. Ницше плакал, зрители «Туринской лошади» — вряд ли.
В частности, поэтому история о встрече философа с кобылой вынесена за рамки фильма. Она рассказана за кадром, на черном фоне, за пару минут. Кино начинается сразу после: седобородый извозчик возвращается из города домой, лошадь тянет повозку. Мы вглядываемся в ее усталую морду, предвкушаем тягостный рассказ о судьбе истерзанного создания. Но когда повозка достигнет пункта назначения — одинокого бедного хутора, лошадь отведут в сарай, где она останется на протяжении почти всего фильма. Оказывается, кобыла-страдалица — не главная героиня, а повод для разговора. Да и не бьет ее никто: наоборот, уговаривают поесть сена или хотя бы попить воды.
А она не идет, не ест, не пьет. Она тихо ждет в своем стойле. Проходит некоторое время, пока зритель не осознает, чего именно.
Лошадь ждет конца света. Единственное преимущество животного перед человеком — развитые инстинкты. Первой почувствовав, что происходит, кобыла остановилась посреди улицы. Люди (кроме одного усатого психа) намека не поняли. Они продолжали жить, как раньше. Тогда лошадь отказалась от сена и воды. Люди по-прежнему недоумевали. Но прошло несколько дней, и им пришлось смириться с неизбежным. Мир кончался быстро; хватило и недели. Впрочем, говорят, создавался он в те же сроки.
Структура «Туринской лошади» обескураживающе проста. Фильм поделен на шесть главок-дней, в течение которых камера пристально следит за бытом хозяев кобылы — стареющего крестьянина и его дочери. В первой из них поднимается ужасный ветер, и ночью умолкают древесные жуки, грызшие стену предыдущие пятьдесят восемь лет. Во второй день лошадь становится посреди двора, не двигаясь с места. Извозчику приходится остаться дома, сменив приличное платье на домашнюю одежду. Лысый сосед-мизантроп заходит за бутылкой палинки и объявляет, что границы добра и зла стерлись, а боги умерли («Чушь все это», — мрачно отвечает хозяин дома, и гость, смутившись, ретируется). В третий день лошадь отказывается от еды, а на хутор заезжают цыгане: выпив воды из колодца, они дарят девушке-хозяйке загадочную книгу. На четвертый день колодец пересыхает, а лошадь отказывается от воды. Крестьянин и его дочь собирают скарб, грузят на повозку и пытаются бежать из дома — однако вскоре возвращаются. На пятый день кончается свет: гаснет не только солнце, но и огонь в печи, и лампа. Наступает день последний.
На шесть дней творения — шесть дней разрушения. Тогда, в начале начал, все было созиданием: даже грех сотворяли. Сейчас, в конце концов, исчезло все, включая понятие «греха». За отношениями персонажей поначалу хочется рассмотреть какую-то трагедию. Где мать девушки, фотография которой висит на стене? Почему отец живет вдвоем с дочерью, нет ли тут секрета, нет ли подоплеки? Но их нет. Есть лишь отработанный до мелочи автоматизм. Оделся-разделся, встал-лег, сходил за водой к колодцу, сварил картошку, поел, задал корма лошади, а тут и спать пора ложиться. Не люди — элементарные частицы. Фактурные актеры — открытая Тарром в «Сатанинском танго» еще ребенком Эрика Бок и сопровождающий режиссера с еще более давних времен Янош Держи — неузнаваемы. Выражения их лиц, как звериных морд, невозможно прочитать, черты скрыты спутанной бородой — у мужчины и длинными волосами — у женщины.
Еще до съемок Бела Тарр объявил, что «Туринская лошадь» станет его последним фильмом — и, похоже, не шутил. Не в том дело, что караул устал и на пенсию пора. Последний — значит, исчерпывающий, после которого другие фильмы не потребуются (по меньшей мере, самому автору). Начиная с «Проклятия», все его картины можно было с большей или меньшей степенью точности назвать «последними». Все — об Апокалипсисе, все — об отмирании механизмов смыслопорождения и смыслоизвлечения, в пику традиционному символическому кино, которое Тарр с удовольствием пародировал: снимал так же протяжно и невыносимо живописно, но возвышенности предпочитал от-кровенный абсурд. Однако постмодернистское осмеяние штампов авторского кино не было сверхзадачей. Подобно музыковеду из «Гармоний Веркмейстера», режиссер чувствовал, что все мелодии, звучащие в этом мире, в чем-то неверны, даже фальшивы, и искал собственную, альтернативную (дис)гармонию. А в «Туринской лошади» нашел.
Увидев в начале фильма скупой пейзаж — холм, на котором растет одинокое дерево с раздвоенным стволом, — по инерции читаешь выразительный образ как символ: такое же нераздельное растение, которое никак не вырвать из почвы, представляет собой род и дом героев. По ходу просмотра стремление к метафорическим трактовкам исчезает. Черно-белая, замедленная по ритму и внушительная по хронометражу (два с половиной часа) «Туринская лошадь» по факту состоит из простейших и однозначных движений, содержание которых равно форме. Когда девушка берет из мешка картошку и несет к печке, она хочет ее сварить, а потом съесть. Когда старик раздевается, он ложится спать. Когда они запрягают лошадь, то собираются ехать в город. Когда берут ведра и идут к колодцу, намереваются набрать воды, а принеся воду в дом — умыться. Когда палинку наливают в стопку, ее выпивают. Когда наливают вторую стопку — выпивают и ее.
Символическим можно посчитать, пожалуй, только увечье извозчика, у которого функционирует левая рука, а правая висит плетью. Но само по себе отмирание «рабочей» руки, как пересыхание колодца, есть отражение уходящего из жизни смысла. То же — и со словами. Связных фрагментов речи всего два: пространная речь соседа и прочитанный по слогам абзац из неведомой книжки. Оба отвергнуты героями как непонятные и пустые. Слова сведены к простейшим командам и знакам, имена устранены за ненадобностью: из титров мы можем узнать, что фамилия сухорукого крестьянина — Ольсдорфер, но в фильме она не будет произнесена ни разу. Незачем.
Текст подменяет угнетающе однообразная музыка постоянного товарища Тарра композитора и артиста Михая Вига. Она призвана не оттенить какие-либо переживания персонажей или подчеркнуть атмосферу, а элементарно заполнить пустоту чередой ритуально-автоматических звуков (лейтмотив построен на трех повторяющихся нисходящих нотах). Стоит мелодии затихнуть, и останется только завывание ветра — агрессивного ничто, готового сдуть хутор и его обитателей с лица земли. Но зрелищного Армагеддона не будет: угасание постепенно, незаметно, как кашель старика, на который он сам перестал обращать внимание. Когда пустота одержит победу, исчезнет даже ветер. Наступят тишина и тьма.
Борьба материального мира, включающего в себя и людей, и животных, и неодушевленные предметы, с всепобеждающим вакуумом делает «Туринскую лошадь» резко актуальным фильмом. Любованию «просто жизнью», которое сегодня вошло в фестивальную моду, Тарр противопоставил еще более простую смерть. Ибо смерть и конец света — одно и то же, и никакого высшего содержания в них нет. Каждый кадр фильма вопиет о скрытом страдании скорого исчезновения, но не просит о пощаде. Если в этом есть хоть что-то ницшеанское, то никак не чья-либо воля к власти, а стоицизм, идеально воплощенный неподвижной фигурой лошади.
Едва ли не самое интересное в кинематографическом языке Тарра — эксперименты со временем. В «Туринской лошади» они достигают последнего предела, апогея радикализма. Сама кобыла — не только живое существо, в чем-то подобное человеку, но и средство передвижения. Перемещениями в пространстве меряется время. Лошадь отказывается идти, и время кончается. Его заменяет иллюзия времени, превращенного отныне в закольцованную бесконечную конструкцию, в уробороса. Любимый лейтмотив Тарра был воплощен сперва во вращении барабана стиральной машины в «Крупноблочных людях», затем в канатной дороге из первых кадров «Проклятия» — и может быть суммирован цитатой из «Макбета»: «Жизнь… — повесть, рассказанная дураком, где много и шума, и страстей, но смысла нет». Недаром свою экранизацию этой трагедии, сделанную для венгерского ТВ в 1982-м, Тарр уместил в два долгих плана, в знак непрерывности и бессмысленности любой судьбы, даже самой героической. Пляшущий под проливным дождем пьянчуга из «Проклятия», на которого завороженно смотрят его товарищи-рабочие, — тот же шекспировский дурак, за которым следом пускаются в пляс и остальные. Вальс из «Осеннего альманаха», хоровод из «Проклятия», «Сатанинское танго» как таковое — нескончаемый бал, где ритмичность отработанных па заставляет танцующих забыть о нелепости всего происходящего, но подчеркивает ее в глазах автора и зрителя.
Именно поэтому так важна остановка лошади и так страшны инерционные перемещения старика и его дочери. Жизнь неизбежно становится сизифовым трудом, причинно-следственные связи отменяются. Смерть, таким образом, — это не наказание и не результат, а единственный способ соскочить с бесконечной карусели. Но и ее не выбирают, а покорно принимают в дар от высших сил. Да, эти силы все-таки существуют (иначе кто устроил ураганный ветер, кто иссушил колодец, кто украл солнце — не цыгане же, в самом деле?). Просто их цели — не в том, чтобы управлять людьми, а в чем-то ином, непознаваемом. Вероятнее всего, человечество Бога вовсе не интересует — он слишком занят вопросами времени и пространства.
Кстати, о пространстве. Для съемок перфекционист Тарр выстроил в понравившейся ему долине настоящий каменный дом и деревянный сарай, вырыл колодец. Тщательность в деталях так бросается в глаза, что неожиданно вспоминаешь: герои картины — крестьяне, это их тяжелый и неблагодарный труд воспет тут! Очередная иллюзия: фильм — настолько же о фермерах, насколько о лошадях, и перед нами — не крестьяне, а люди как таковые. Их род занятий важен только потому, что позволяет Тарру — едва ли не впервые в его кинокарьере — избавиться от искусственности и натужности. Они привязаны к земле и дому, они лишены острой потребности в коммуникации, они не думают об окружающем мире, поскольку натуральное хозяйство консервативно по определению. Естественно вытекающий из этого стилистический архаизм иногда воскрешает в памяти немое кино (и уж точно фотографию начала ХХ века, вроде портретов Августа Зандера), но речь тут идет не столько об эстетической преемственности, сколько о постоянстве человеческой истории. Отработанность и предсказуемость каждого ее поворота наглядно отражены в распорядке дня старика и его дочери. Утром восход, вечером закат. В начале рождение, в конце смерть.
Вспоминал крестьян в своей «Белой ленте» — такой же неспешной, эпической, немногословной, черно-белой, вдохновленной зандеровскими снимками — и Михаэль Ханеке: для него был важен социальный срез, позволявший увидеть все общество сразу. Тарра общество не волнует — его заботит человечество. В «Белой ленте» текст от автора был поручен умнику учителю, искавшему за кадром источник зла. Авторский голос «Туринской лошади» больше похож на дикторский. Он не верит в добро или зло, он не задает ненужных вопросов, его доля — бесстрастное всезнание: он включается на считанные секунды, чтобы рассказать, что делают старик и девушка после наступления темноты, а потом передоверяет функции повествователя вездесущей камере.
«Туринская лошадь» состоит всего из тридцати виртуозных длинных планов, но это отнюдь не пижонская демонстрация владения ремеслом. Тарр выкладывает карты: все, что существует в этом мире, представлено перед вашими глазами, ничто не спрятано за монтажными склейками. Камера движется свободно, как никогда, — исследует каждый уголок убогого жилища, переходит от общего плана к крупному и обратно, выходит во двор и заглядывает в колодец. Лишь в одной сцене оператор Фред Келемен не может догнать героев — они сбежали из дома и перешли границу видимого пейзажа, скрывшись за склоном холма… примерно на минуту. Потом — возвращение, как в обратной перемотке, к проверенному порядку событий (недаром в этой сцене лошадь запрягается позади телеги). Все, как прежде, никаких секретов. Мир таков, жизнь такова, другой не будет, и эта скоро кончится.
Увлечение детективом режиссер пережил в своей предыдущей картине «Человек из Лондона», основанной на романе Жоржа Сименона. Та работа была торжеством формализма, доведенного до неслыханных технических высот. В «Туринской лошади» Тарр будто потешается над собой вчерашним: оказывается, чистить вареную картофелину или тянуть ведро из колодца можно с такой же экспрессией, как любить, убивать или умирать. Однако энергия пустого действия иссякает на глазах, съедает саму себя, угасает, как лучина. Так жизнь переходит в смерть, в контексте как частном, так и универсальном. Из всех специалистов по эсхатологии, исследовавших в кинематографе вопросы Апокалипсиса в последнее десятилетие, Тарр оказался самым последовательным. Он не задается вопросом, как выжить во время конца света (подобно Роланду Эммериху), и не спрашивает о том, как жить после конца света (подобно тому же Ханеке). Конец — значит, конец. Тушите свет. Хотя он и без вас погаснет.
Девушка читает вслух книгу, оставленную цыганами (специально сочиненный в духе апокрифического Евангелия текст), все о том же: человечество грешило, и жрец запер двери храма… Что остается в такой ситуации? Только ждать — не зная, чего ждешь. Как мы проводим часы, уставившись в телевизор, герои «Туринской лошади» пялятся в окно, за которым нет ничего, кроме пляшущих на ветру листьев. Там — реальность, неподвластная и недружелюбная. Реальность отделена стеклом и решеткой оконной рамы, но в тюрьме они наблюдатели, а не вольный хаос, в котором по воздуху дико носятся листья, будто хлопья пепла из проснувшегося вулкана. Зрелище гипнотизирует.
Скорбное бесчувствие заражает людей, как и лошадей. Впрочем, лошади хватает мужества остановиться, когда человек малодушно продолжает жить и ждать. Вот и вся разница. Самый эффектный момент фильма — возникающий за минуту до финала титр «День шестой». Вроде мир истончился и исчез, в нем не осталось ничего, так что же будет на экране? А все то же. Двое за грубым тесаным столом, в миске две картофелины. Сырые — огня-то больше нет. «Ешь. Надо есть».
Бела Тарр не думает о суициде, но ему хватает воли на то, чтобы остановиться. После «Туринской лошади», в пятьдесят пять лет венгерский режиссер покидает кинематограф. В своей последовательности он, право, ближе к лошадям, чем к людям. Наверное, поэтому он продолжил дело, начатое Раскольниковым и Ницше: отбирая исполнительницу главной роли на лошадином рынке, Тарр спас от побоев и тяжкой работы кобылу по прозвищу Ричи. Сейчас она живет привольно и счастливо, как полагается кинозвезде.
Так неожиданно из тумана вырисовываются компоненты смысла, об отсутствии которого так отчаянно кричит каждый кадр «Туринской лошади»: спасти живое существо, построить дом… Что там третье по списку? Возможно, снять фильм? Бела Тарр думает иначе. Лошадь спасена, дом построен, с кинематографом покончено.
Все к лучшему.
Искусство кино №3, Март 2011
http://kinoart.ru/archive/2011/03/n3-article9
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:33 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Вика Смирнова. За апокалипсисом
«Туринская лошадь», режиссер Бела Тарр
Шопенгауэр, хоть и пессимист, собственно — играл на флейте… Ежедневно, после обеда; прочтите об этом у его биографа. И вот еще между прочим вопрос: пессимист, отрицатель Бога и мира, который утверждает мораль и играет на флейте, подтверждает […] мораль: как? разве это собственно — пессимист?
Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла
Есть невероятный соблазн в том, чтоб причислить «Туринскую лошадь» к фильмам прекрасным, но старомодным. Именно эти эпитеты мелькают у критиков, говорящих о квинтэссенции стиля («библейская фреска», «величественная метафора») и останавливающихся как вкопанные перед моралью. Последняя таинственным образом исчезает в описании «притчи об апокалипсисе».
Одним словом, большинство легко удовлетворяется тавтологией («Конец всего — это просто конец всего»), как если бы апокалипсис был темой и одновременно идеей любого произведения.
Справедливости ради заметим, что режиссерские интервью ничуть не противоречат расхожей интерпретации фильма. «Туринская лошадь» объявлена «лентой-прощанием», после которой «ничего невозможно». Бела Тарр заканчивает карьеру и символически уходит на пенсию1.
Пожалуй, единственное, что останавливает эту замечательную игру в очевидность — сама идея «последнего фильма». Ведь мысль о закате истории — есть мысль историческая par excellence и в этом качестве не избегающая во-проса «А что потом?».
Тарр, впрочем, отвечает с чудесной наивностью — все когда-нибудь приходит к концу. Однако Тарр-художник (отличающийся от Тарра — человека и комментатора) говорит нечто совершенно иное.
Оставляя позади анекдот (впечатляющую сцену в Турине, где Ницше заплакал от вида истерзанной лошади), фильм повествует о лошади и вознице, о мире, охваченном энтропией. В постепенном угасании жизни здесь останавливаются огонь и вода, живая и неживая природа. Все, кроме самого человека, гонимого ветром и спасительным незнанием собственной участи.
Можно сказать, что у Тарра существует смирение вещей внутри отмеренного круга возможностей. Огонь знает, что перестанет гореть, колодец — что высохнет. Лошадь чувствует наступление смерти. Каждая вещь не больше себя самой и смирится перед наступающим возникновением и гибелью. И лишь человек, влекомый иллюзией, не ведает, что существует конец всего.
Возница встает и идет за плугом, дочь носит воду и переодевает его перед полуденным сном. Он пашет землю, она ставит на стол две темные, как уголь, картофелины. А после каждый торопится к пустому окну. Садится, словно в театральную ложу, и замирает в ожидании зрелища.
Так молчание бога позволяет человеку надеяться2: с крестьянским упорством пересекать очередную опустошенную землю и возвращаться в другую, смирившуюся с собственной скудостью. Исполнять однажды заведенный порядок, не переставая вглядываться туда, где нет ничего, кроме ветра.
Бела Тарр выстраивает кадр как театральную мизансцену: полупустое пространство, венчающееся перекрестьем окна, реквизит суперусловного действа и персонажи с внешностью библейских пророков, вылепленных угловой светотенью.
Театральность, в которой многие видят возвращение в 80-е, здесь живет в контрапункте с монотонностью времени. Геометрия каждого кадра спорит с невыносимой «прибавкой» реальности, с тем, что никакой образ не может усвоить. Тарр словно сражается с жизнью, однообразно втекающей в объектив, строит плотину из символов, пытаясь сдержать энтропию времени. Впрочем, сам Тарр едва ли узнал бы себя в этом высказывании.
Читая его интервью, понимаешь, с каким упорством режиссерская воля расходится с человеческой. Для последней нет ничего, кроме вещи в ее сугубой материальности; ничего, кроме лошади, огня и колодца.
Это почти физическое переживание пространства3 роднит Тарра с Андре Базеном, для которого кино — презентация, зрелище, получившее шанс говорить без посредников.
Однажды сняв «Сатанинское танго», Тарр делает шаг на обочину. Но не к «синема-верите», — как думают многие — и не к жизни как спонтанной естественности, а к реализму как собиранию критической массы времени и про-странства. У него поражает не пресловутое «чувство спонтанности», но момент чрезмерности, то, что невозможно увидеть.
Не случайно Тарром так вдохновлялся Ван Сент, начиная с «Моего личного штата Айдахо» ставящий бесконечный оммаж его фильмам. В «Джерри» герои теряются, потому что не в силах справиться с иррациональным однообразием повседневности. В «Слоне» меланхолия сочится из тел и предметов, медлительно угасающих, словно слепнущих от собственной красоты4.
Есть два «сюжета», важных в отношении Тарра. Во-первых, его стремление к минимальному монтажу — одержимость утекающим временем, жизнью, чья красота почти тошнотворна. И, во-вторых, любовь к театральности, минимализму как обязательной раме, которая дает слово невыразимому.
Собственно, у Тарра не так много возможностей высказать то, что так трудно поддается высказыванию, — либо вступить с образом в конфронтацию, либо символически его опосредовать. Режиссер выбирает второе. Он снимает метафорические истории, в которых завораживает непрерывность материи, ее упрямое, почти документальное присутствие в кадре5. В этом смысле традиционное ницшеанство всегда было «понятийным небом» его картин.
У Тарра есть бесконечное дление без шанса на эволюцию. В его фильмах постоянны рефрены — изматывающий секс героев в «Проклятии», монотонность супружеских отношений в «Крупноблочных людях». Любое движение — скольжение по кругу, попытки побега, не изменяющие реальность. Вещи тоже участвуют в этой игре в тавтологию, поражая упрямой настойчивостью присутствия. Впрочем, стиль Тарра ни в коем случае не уравнивает людей и предметы. Здесь нет ничего от магического реализма, ничего от желания одушевить природу.
Плач Ницше над истязаемой возницею лошадью — плач вырванного из природного мира мифом или метафорой. Лошадь не плачет над лошадью, огонь над огнем и лишь человек способен вообразить себе силу страдания, смирившись с той самой разницей, что отделяет его от всего остального6.
Не случайно картины Тарра словно бы медлят, возвращаясь из внезапного обморока изображения. Герои же — те выдерживают. Возница смеется над тем, кто приходит сказать о конце времен. Его, как и прочих (супругов из «Крупноблочных людей», героев «Проклятия»), спасают иллюзия ожидания, упорство, с которым выполняется заведенный порядок.
Как беккетовские Владимир и Эстрагон, люди Тарра пойманы в плен языка, у которого всегда есть свои «потом», свои небеса, уносящие персонажей туда, где спасается от кораблекрушения История.
Незнание участи есть то, что делает человеком.
В его экстатическом отрицании финала человек остается посередине между незнанием и верой в предопределенность, между философской догматикой и религиозной наивностью. Он избегает того, чтобы примкнуть к одной из строгих существующих истин, живет, словно на сцене, где вечное возвращение иступляется надеждой на зрелище.
Можно сказать и так. У Тарра, как и у Ницше, отблеск маскарадности мира помогает выдержать повторяемость вещей и событий. Благодаря искусной силе обмана и вере в метафору история возобновляется. И если даже погаснет огонь, исчезнет вода, лошадь встанет, как вкопанная, возница произнесет финальное «Ешь!», вгрызаясь зубами в сырой, черный, как уголь, картофель. Потому что каким-то образом знает: среди мертвых всегда оказываются не совсем мертвые.
1 Из интервью Белы Тарра А.Долину: «А сегодня у меня осталась единственная мысль: тяжко жить, и я не знаю, что предпринять и что меня ждет. Уверен я лишь в одном — конец близок. Именно поэтому еще до начала съемок я знал, что «Туринская лошадь» будет моим последним фильмом. Я доделал мою работу. Она завершена, упакована и запечатана. Хватит. Пора чем-нибудь другим заняться». Бела Тарр: «Я никого не осуждаю — я и сам в числе виноватых». http://www.openspace.ru/cinema/events/details/20632/
2 Никогда (до Ницше) фраза «Бог умер» не звучала как обещание вечности.
3 «Я не переношу искусственные декорации, поэтому мы построили настоящий дом, используя старинные обтесанные камни и старые куски дерева, позвали стариков строителей… Разумеется, мы старались быть перфекционистами и пытались воспроизводить архитектуру тех времен во всех подробностях. Потом вырыли колодец. Настоящий. Потом построили амбар. И отправились на поиски подлинного реквизита. Когда мы его собрали, перед моими глазами уже стоял будущий фильм». Из интервью Белы Тарра. (Там же.) Можно сказать, что реальность странным и одновременно естественным образом откликается на зов Белы Тарра. Симптоматично, что лошадь, игравшая лошадь, в конце съемок забеременела.
4 В этом смысле убийство есть необходимая хоть и внешне немотивированная «разрядка» реальности.
5 В современном кинематографе это сила присутствия, обязанная меморативной способности камеры, становится темой Михаэля Ханеке. Так, в «Скрытом» человек защищается, бесконечно «вычитая» себя или, наоборот, «вчитывая» в ограничивающие структуры, контексты. И вдруг, подобно герою Отёя, оказывается перед лицом этой «бездны возможностей». Именно повторение — безличная, ни на что не указывающая камера — и есть эта травмирующая «прибавка» в виде того же самого. Пленка, возвращающая и одновременно дублирующая будни Лорранов.
6 Для Тарра жить означает быть ограниченным, отличным от прочего, оценивать, обольщаться, менять убеждения. То есть быть иными, чем природа.
Искусство кино №3, Март 2011
http://kinoart.ru/archive/2011/03/n3-article10
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:33 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Туринская лошадь
Во всех смыслах последний фильм важного венгерского режиссера
1889 год, Турин. Фридрих Ницше, уже который месяц считающий себя Цезарем и докучающий друзьям интересной корреспонденцией, в слезах бросается обнимать лошадь, которую избивает извозчик. Философа успокоят и отведут домой, где он окончательно впадет в безмолвное помешательство. С лошадью, по версии Белы Тарра, выйдет примерно так же.
Каким бы сильным ни было искушение воспринять фильм как очередную попытку занятного толкования ницшеанства (великая европейская традиция), понятно, что и усатый австрияк, и его злополучная лошадь — лишь повод для Тарра поговорить о своем. Дети и животные, как известно, лучше других чувствуют потустороннее, и впавший в скоропостижный маразм философ, как намекает нам режиссер, всего-навсего углядел в глазах побитого непарнокопытного приближающийся апокалипсис. Обремененный этим откровением Ницше у Тарра так и не появится, лошадь тоже большую часть времени простоит в сарае: история в фильме скорее о тех, кто из классовой упертости до самого конца будет отрицать неизбежное, — кучере и его дочери.
Венгра никогда нельзя было упрекнуть в излишне веселом нраве; юмор в его космических по масштабу аллегориях о страданиях Восточного блока всегда был скорее могильного порядка. «Лошадь» то и дело сравнивают с творчеством другого певца мизерабельности, Беккетом, и в этом, конечно, есть доля правды — действие в фильме зависает в сером безвременье, на одном куцем участке земли и по большей части состоит из поедания картошки. Вряд ли для кого-то будет новой мысль, что нам всем суждено долго страдать, а потом умереть, но режиссер явно призывает не горько над ней рассмеяться, а начать потихоньку рвать на себе волосы.
Тарр, как известно, пообещал уйти после фильма из режиссуры. Подозревать пожилого человека в кокетстве было бы, наверное, неуместно, если бы все в сумме — лошадь, Ницше, апокалипсис и пенсия — не отдавало столь подростковым мироощущением. Все умрут, и я тоже здесь не останусь. Бела! Фридрих! Ницше в свое время показал, что философствовать можно, в целом, и молотом, но забивать им гвозди в гроб собственного кино — поведение все же несколько необдуманное.
Василий Миловидов, 5 марта
http://www.afisha.ru/movie/206861/review/414990/
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:33 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Шесть дней распада
Михаил Трофименков о фильме «Туринская лошадь» Белы Тарра
При упоминании в хорошем обществе "Туринской лошади" (A Torinoi lo, 2010) венгра Белы Тарра положено экстатически — вслед за Сьюзен Зонтаг и Гасом Ван Сентом — вспоминать великого метафизика Робера Брессона (у того на экране страдал ослик Бальтазар, у Тарра, соответственно, лошадь) и, конечно же, Андрея Тарковского. Апокалипсис в моде: о нем снимают фильмы Михаэль Ханеке и Ларс фон Триер, Андрей Смирнов и Александр Зельдович. Дабы все правильно поняли, что и у него тоже речь идет о конце света, Тарр помещает экранное действие-бездействие в категорическую систему координат.
Во-первых, Тарр объясняет: лошадь — та самая, увидев страдания которой Фридрих Ницше заплакал, расцеловал ее и отправился до конца дней своих в психушку. Если же упомянут Ницше, сразу понимаешь: кино о смерти Бога. И если в доме сухорукого бородача-крестьянина (Янош Держи) и его дочери (Эрика Бок) гаснет свет, то это конец Света ("Лампу зажги, мать твою!",— некстати компрометируя высокий стиль, буркнет во мраке старик), а на улице завывает не ветер, а Ветер. На всякий случай — для самых тупых — к крестьянину заглянет на гаснущий огонек похожий на дядюшку Фестера сосед (Михай Кормош) — потрепаться о смерти богов: говорить им, понимаешь, больше не о чем. А приблудные цыгане одарят девушку апокрифическим Евангелием, из которого она, водя пальцем по строчкам, вычитает конец света. Тут уместнее вспоминать не Тарковского, а Андрея Звягинцева, у которого детишки складывают пазл "Благовещение", чтобы зритель не усомнился в метафизической подкладке семейной драмы с абортом.
Во-вторых, фильм разбит на шесть глав — шесть дней не творения, но распада мира. Что сулит день седьмой, оставшийся за кадром, можно только догадываться, но лучше не стоит.
Беда в том, что черно-белой картинки, скудных тридцати монтажных склеек на два с половиной часа экранного времени, минимума диалогов и монотонного воя ветра недостаточно, чтобы физика изображения претворилась в метафизику. Одно дело — что режиссер навязывает зрителю. Совсем другое — что мы видим.
Жизнь героев течет — или вытекает — в ритме повторяющихся, почти ритуальных действий. Разжечь печку. Помочь отцу раздеться перед отходом ко сну. Помочь отцу одеться поутру. Вывести — или хотя бы попытаться вывести — лошадь из стойла, запрячь ее. Сварить картошку и победить ее, проклятую, отправив ценой титанических усилий в рот. И так каждый божий — или, скорее, чертов — день.
Что-то это напоминает.
В 1934 году великий Роберт Флаэрти снял "Человека из Арана" об обитателях крохотного острова у побережья Ирландии. Изо дня в день его обитатели расчищали, убирая камни, пространство для скудного огорода: они тоже питались картошкой.
В 1960 году Канэто Синдо снял прославленный "Голый остров" об обитателях другого, на сей раз японского, но столь же скудного острова, изо дня в день отправляющихся на соседний островок за водой, необходимой для поливки их столь же скудных грядок.
Ни Флаэрти, ни Синдо и в голову бы не пришло, что они снимают кино о конце света или смерти богов. Наоборот, они снимали кино о жизни. Да, о такой вот жизни: монотонной, тяжелой. Что поделать, если зрителям-горожанам она кажется невыносимой: именно в таком ритме жили и живут сотни миллионов людей, трудящихся на земле. Живут, не жалуясь на богооставленность. Надо же кому-то собирать камни.
Метафизика фильма окончательно проседает, когда цыгане шумною толпой просят у героев воды, а бирюк выходит навстречу дорогим гостям с топором. Все знают, что цыган с чертом запанибрата, но коли у нас апокалипсис, а не венгерская народная сказка, то цыгане как вестники конца света выглядят как-то несерьезно. Тем более в контексте того, что с цыганами в нынешней Венгрии обходятся ой как неласково.
Но если по совести, то грех иронизировать над Тарром. Ведь, снимая фильм, он преумножил количество добра в мире: спас от жестокого обращения и сделал кинозвездой грустную лошадь. Не то что Ницше...
Журнал "Коммерсантъ Weekend", №8 (3653), 07.03.2012
http://www.kommersant.ru/doc/1883560
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:34 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Кобыла бытия
"Туринская лошадь" Белы Тарра
Потребовался год с лишним, чтобы "Туринская лошадь" Белы Тарра, нагруженная одной-единственной просмотровой копией, доковыляла с прошлогоднего Берлинского фестиваля до московского проката. В отличном состоянии нашел священную кобылу авторского кино АНДРЕЙ ПЛАХОВ.
Критики говорят о "Туринской лошади" либо патетически — как о "последнем фильме" и "лебединой песне" великого венгра, либо иронически. Подозреваю, второй подход пришелся бы автору больше по душе, ведь он заложен в самой картине. Взяв за исходный пункт историю помешательства Фридриха Ницше в Турине (философ увидел, как кучер избивает старую больную кобылу, в припадке сострадания расцеловал ее и окончательно потерял рассудок), режиссер выкладывает известный эпизод в первые две минуты фильма, да и то в словесной, а не визуальной форме. То есть оставляет исторический анекдот за кадром, в то время как в кадре — заполнившая экран чернота в прямом и переносном смысле.
Черная ирония звучит в словах о том, что про Ницше мы знаем достаточно много, но ничего не знаем о той лошади. И дальше два с половиной часа нас погружают в апокалипсический мир венгерского хутора, где, словно после Чернобыля, бушует разрушительный ветер, гаснет свет, высыхает вода в колодце, а отец с дочерью (Янош Держи и Эрика Бок) и доходягой лошадью (ее имя остается неизвестно) доживают последние шесть дней перед концом всего и вся. Кучер и дочь каждый день встают, одеваются, безуспешно пытаются запрячь несчастную лошадь и загоняют обратно в стойло, съедают по одной обжигающей пальцы сваренной картофелине, хозяин выпивает свою дозу палинки. Их одиночество в распадающейся вселенной нарушают визиты соседа и залетных цыган — они тоже несут с собой вести о конце света.
В черно-белом, предельно аскетичном фильме, склеенном всего из тридцати кадров и трех нот саундтрека Михая Вига, минимум диалогов (сценарист — Ласло Краснохоркаи), единственное понятное слово — "курва", нет решительно никакого просвета, а каждый раз, когда открывается дверь разваленной конюшни, мы как будто буквально вступаем во врата ада. Потому что если страдания людей, как мы все равно понимаем, разыграны артистами, то умирание лошади, отказывающейся есть и пить,— одно из самых страшных зрелищ мирового кино.
И однако это зрелище тоже инсценировано! Не надо сравнивать Белу Тарра с Брессоном, Тарковским и Триером. Он не убил ни зайца, ни ослика, не тронул ни корову, ни даже таракана. "Доходяга лошадь" получила хороший гонорар, родила, стала отличной матерью и живет припеваючи на богатом хуторе. Вот она, волшебная сила искусства, в том числе гримерного. Надо поменьше делать из художника Художника, Гуру, Пророка — и он сам покажется проще, к людям потянется. А если ввернет в интервью какой-нибудь красивый апокалипсический оборот, так на то ему и дан талант образного мышления.
Теперь насчет "лебединой песни". Логически рассуждая, "Туринская лошадь" должна была победить на Берлинском фестивале — как самый бескомпромиссный, самый радикальный, стопроцентно авторский фильм. Но ее обогнал иранский "Развод" — политкорректный образец актуального киноискусства из страны-изгоя (последовавший "Оскар" лишь утвердил эту выигрышную позицию). Получая "Серебряного медведя" из рук другого самобытного автора, Гая Мэддина, осыпавшего Белу Тарра комплиментами, тот в ответ назвал его лжецом. Потому что для таких, как Бела Тарр, не существует второго или третьего места — оно должно быть первым или никаким.
При этом индивидуалист Бела Тарр остается венгром, а это еще больше усугубляет ситуацию. Венгерское кино вот уже полвека считается самым мрачным, самым идиосинкразическим в Европе. Оно практически никогда не побеждает на фестивалях, будь то старые шедевры 90-летнего Миклоша Янчо или недавний фильм Бенце Флигауфа "Просто ветер", получивший второй — но не первый — приз на последнем Берлинале. Уже после своего награждения Бела Тарр высказался (вместе с режиссерами-соотечественниками, а также с Михаэлем Ханеке, Гасом Ван Сентом и Тильдой Суинтон) против нововведений в венгерской киноиндустрии, которые должны подчинить ее коммерческому фактору. Он также произвел символический жест — внес в созданный Фонд спасения авторского кино €10, а в его системе координат это серьезное вложение, которое, глядишь, и заложит основу для будущего проекта. "Пессимизм интеллекта — оптимизм воли" (Лукино Висконти).
Газета "Коммерсантъ", №44 (4829), 14.03.2012
http://www.kommersant.ru/doc/1890790
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:34 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Самое позднее — в Турине
Ласло Краснахоркаи
Вчера до российского проката доковылял последний фильм Белы Тарра «Туринская лошадь». Публикуем эссе Ласло Краснахоркаи, вдохновившее режиссера на создание этой картины. Специально для «Сеанса» № 45/46 его перевела Оксана Якименко.
Сто лет тому назад, в 1889 году, в день, который мог быть похож на сегодняшний, Фридрих Ницше выходит из дверей своего дома в Турине, дома номер шесть по виа Карло Альберто — то ли на прогулку, то ли на почту за письмом. Неподалеку какой-то извозчик в бессильной ярости понукает упрямую лошадь. Он торопит ее, но напрасно: скотина ни с места. Простолюдин — Джузеппе? Карло? Этторе? — теряет терпение и бьет животное хлыстом. Ницше, как известно, приходит в возмущение и кладет конец жестокому спектаклю, инициатор которого и сам уже весь в мыле от гнева. Высоченный господин с пышными усами неожиданно подскакивает к лошади и — полагаю, к едва скрываемому удовольствию зевак, — рыдая, бросается ей на шею. Управляющий отводит разбушевавшегося Ницше домой, тот молча ложится на тахту, на которой неподвижно пролежит два месяца, после чего произнесет свои последние слова («Мама, какой я дурак») и еще десять лет проведет под присмотром матери и сестры в состоянии кроткого помешательства. Что стало с лошадью — нам неизвестно.
Эта и без того довольно темная история — хотя желание принять ее на веру вполне естественно — с небывалой ясностью высвечивает для меня жалкое фиаско нашего духа — прообраз общей трагедии утраты смысла. Темная звезда от философии, блистательный противник так называемых общечеловеческих ценностей, неподражаемый гигант, давно и решительно отринувший добро и сострадание, — бросается на шею избитой лошади? Возникает непростительно банальный, но закономерный вопрос: почему не на шею извозчику?
При всем уважении к доктору Мебиусу, для которого все произошедшее — типичный приступ прогрессирующего паралича, вызванного сифилисом, мне все-таки видится здесь подобное удару молнии осознание трагического заблуждения: после длительной и мучительной борьбы существо Ницше начало отторгать дьявольский стиль мысли, бывший неотъемлемой частью его самого. По мнению Томаса Манна, это заблуждение родилось из того, что сей «трепетный пророк гнусности» противопоставлял жизнь и мораль. «Истина в том, — добавляет Манн, — что нравственность и жизнь составляют единое целое. Этика — опора жизни, а нравственный человек — истинный гражданин жизни». Высказывание Манна прекрасно в своем благородстве: но даже если мы последуем его рекомендации и выкроим время для свободного плавания [по этому идеальному морю], нашим кораблем будет управлять не кто иной, как Ницше, каким он стал в Турине, а это подразумевает не только другие воды, но и требует иного устройства нервной системы; более того, здесь уместно было бы говорить о стальных нервах толщиной с корабельный канат. И этот канат нам наверняка понадобится, ведь, к своему величайшему удивлению, мы прибудем в ту же самую гавань, куда привели бы нас слова Томаса Манна, — и пусть это та же самая гавань, чувствовать себя в ней мы будем совсем не так, как он нам обещал.
Туринская трагедия Ницше подсказывает: жизнь в согласии с нравственным законом — не есть свободный выбор, так как выбрать нечто противоположное априори невозможно. Я могу жить вопреки этому закону, но не смогу освободиться от таинственной и воистину неопределимой силы, которая неразрывно связывает меня с ним. Если же я все-таки стану жить вопреки нравственному закону, то, наверное, смогу устроиться в предсказуемой и убогой общественной жизни, в которой — выражаясь словами Ницше — «жить и быть несправедливым — это одно и то же», но не смогу разрешить тот неразрешимый конфликт, который так часто вынуждает меня тосковать по смыслу собственного существования. Ведь будучи частью этой общественной жизни, я точно так же остаюсь частью того, что, по непонятной причине, продолжаю называть чем-то большим, единым целым, и — без ссылки на Канта не обойтись — оно, это большее, как раз и поселило во мне означенный закон вместе с печальным правом его нарушения.
Тут мы уже лавируем среди бакенов, отмечающих вход в гавань. Лавируем вслепую: на маяке все спят, и управлять нашими маневрами некому. Приходится бросать якорь в полумрак, стремительно поглощающий наши вопросы о том, отражает ли мироздание высший смысл нравственного закона. Так мы и стоим в неведении, наблюдая за тем, как со всех сторон к нам медленно стекаются новые товарищи по несчастью. Мы не в силах подать им никаких предупредительных сигналов, мы лишь провожаем их взглядами, исполненными сострадания. Нам кажется, будто так и должно быть; те же, кто приближается к нам издалека, тоже однажды испытают нечто подобное — не сегодня, так завтра... или через десять... или через тридцать лет.
Самое позднее — в Турине.
16 марта 2012
http://seance.ru/blog/horse/
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:34 | Сообщение # 9 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Туринская лошадь /Torinoi lo/
3 января 1889 года в центре Турина Фридрих Ницше наблюдает сцену избиения лошади извозчиком. Не выдержав такой жестокости, философ обнимает её за шею и начинает рыдать. После двух дней полного молчания, увенчанных фразой «Мама, я глупец!», великий немец окончательно сойдёт с ума. Извозчик же вернётся в свой маленький домик за городом, где его будет ждать молчунья-дочь. В течение недели они будут влачить жалкое существование, поедая варёную картошку, коля дрова, набирая из ближайшего колодца вёдра воды, кормя и стегая несговорчивую лошадь, кажется, окончательно решившую навсегда покинуть этот бренный мир...
Новый фильм великого венгра Белы Тарра логически продолжает многолетние размышления режиссёра об окружающей нас действительности и жизни как таковой. По заверениям самого Тарра, «Туринская лошадь» — его последняя работа на поприще кинематографа. Причина подобного решения, не стоит сомневаться, взвешенного и не раз обдуманного, до безобразия проста — режиссёру, на его взгляд, больше нечего сказать своему зрителю. Очевидная кокетливость формулировки, автоматически заставляющая сомневаться в её искренности, имеет, однако, один немаловажный аргумент: каждый фильм Тарра представляет собой автономную вселенную, внутри которой можно обнаружить почти все мало-мальски серьёзные темы и смыслы. Оттого финальный аккорд этой бесконечно красивой мелодии, звучащей в ушах вот уже 34 года (режиссёр дебютировал в 1978-м), должен был окончательно расставить все точки над i в не очень уютном, но завораживающем мире венгерского маэстро.
Мелодраматическая история про бедную лошадь и сходящего с ума Ницше здесь в буквальном смысле рассказана — чёрный экран, закадровый голос, — а не показана. Тратить на это время Тарру по-видимому жаль, но озвучить — необходимо. За счёт двухминутного, хорошо проговорённого эпиграфа и без того объёмный, с множеством удивительных подробностей рассказ о житие-бытие несчастного извозчика и его дочери приобретает нужную режиссёру интонацию. Как всегда у Тарра, главное и настоящее остаётся как бы за кадром, уступая место беспристрастному фиксированию человеческой экзистенции. Однако в «Лошади» венгр чуть более прямолинеен и однозначен, чем обычно. Отсылка к Ницше, естественно, не случайна. Его знаменитое «Бог умер!» проходит красной линией через всё творчество Тарра, но именно здесь окончательно трансформируется из удручающего пророчества в констатацию факта.
«Туринская лошадь» Белы Тарра — беспрецедентный режиссёрский мастер-класс, где сжатое до одного захудалого двора пространство на протяжении 146 минут обнаруживает в себе всё новые и новые слои. Умышленно доведя художественную герметичность до возможного предела, Тарр ловко и элегантно превращает всевозможные ловушки в достоинства, не забывая при этом о собственных целях и задачах.
Мириться с тем, что перед нами последний фильм выдающегося режиссёра мирового кино совсем не хочется, но, пожалуй, придётся. Художник масштаба Белы Тарра имеет полное право взять самоотвод и заняться чем-то другим. Для этого, слава Богу, совсем необязательно сходить с ума. А творческого наследия венгра хватит ещё ни на одно поколение заинтересованных зрителей.
(с) Станислав Никулин
http://www.kinomania.ru/movies/a/a_torinoi_lo/index.shtml
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:35 | Сообщение # 10 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| «Туринская лошадь»
О фильме, который хочет быть последним на свете
«Туринская лошадь» неспешно приходит из тишины и мрака, в них же, не торопясь, удаляется. Запертый в темноте голос зачитывает предисловие: историю судьбоносной встречи Ницше с извозчиком и его несчастной скотиной на улицах Турина. Сжалившийся над животным философ повредится умом, а что стало с лошадью, говорит голос, — неизвестно. Закадровый бог за шесть дней неспешно остановит вращение лошадиной вселенной, изредка отстраненно и безучастно комментируя угасание дела рук своих.
Лошадь — ключевой, хотя и не центральный, персонаж фильма. Сквозь холодный ветер она плетется домой, чтобы больше никогда уже не есть, не ходить и почти не появляться в кадре, выстроенном вполне антропоцентрично, вокруг увечного извозчика и его смурной дочери. Последние, как мы вскоре понимаем, дни эти печальные едоки картофеля проводят рутинно: встают, одеваются, едят (руками), выпивают палинки и безуспешно пытаются вывести свою депрессивную кормилицу на работу. Сдаются, раздеваются, ложатся спать. Кругом никого нет, однообразно и без конца воет холодный ветер, на горизонте — дерево, во дворе — колодец.
Колодец, хоть и статичный, — вторая по важности фигура картины. С ним связан один из двух ярких разрывов в неподвижном, как глаз извозчика, пространстве фильма. Каждый новый день здесь помечен очередной вехой необратимости, и однажды ей становится приезд шумных цыган, пожелавших напиться из колодца. Им не удается попутно увлечь за собой дочь извозчика, но вода с ними уходит.
Ницше появляется в виде короткого всполоха, он же — второй разрыв широченной, нисходящей спирали повествования. Невесть откуда пришедший за бутылкой палинки бритоголовый мадьяр пять минут авторитетно несет упадочную околесицу, отдаленно перекликающуюся с воззрениями философа. Похоже, что маргинализированный Ницше понадобился Тарру только затем, чтобы избавить от философии свой собственный апокалипсис. Никакой подоплеки, говорит он нам, тут нет — просто свет гаснет. Собственно, это и происходит в предпоследний день, когда солнце устает пробиваться через тучи, а лампы отказываются загораться.
Два человека, почти постоянно присутствующие в кадре, не более значимы, чем живущие в стенах их дома жучки-древоточцы. Это ускользающее, уже бессмысленное, почти животное существование — zoe — лишено полутонов и нюансов. Им не о чем говорить, не о чем мечтать, не за что держаться, их не жаль. Они лишь скромные элементы мозаики, из которой большой художник складывает эпическую картину последнего заката.
Чтобы совладать с гранитной тяжестью этого фильма, психика смотрящего должна уметь работать как трансмиссия «БелАЗа» с десятком понижающих передач. Черно-белое, бессобытийное, с длиннющими ползучими кадрами, почти без монтажных склеек, неизменно выдающееся кино Тарра невыносимо. Оно сделано вовсе не ради зрительского удовольствия, хотя выглядит исключительно красиво. Наблюдатель здесь оказывается вынужден воспринимать не столько историю — которой почти нет, — сколько форму. Расхожий синоним слова «фильм» — «картина», который обычно употребляют не к месту, как нельзя лучше подходит к «Туринской лошади» (да и к большинству фильмов Тарра). Но даже гениальную живопись тяжело рассматривать несколько часов кряду.
Маленькие истории с незначительными людьми, раздутые до не поддающихся рациональному объяснению масштабов, отражают не только талант их создателя, но и его подавленные провинциальные комплексы, которые должны быть близки и хорошо понятны российскому зрителю, воспитанному на монументальной значительности кинематографа Тарковского и Сокурова. «Туринская лошадь» с этого ракурса выглядит логическим пределом: ничего более патетического, чем крушение мира, проваливающегося в высохший колодец венгерской тьмутаракани, даже представить себе нельзя.
«Когда вы увидите этот фильм, вы поймете, почему он может быть только последним фильмом», — говорил Тарр задолго до съемок. Что правда, то правда. «Туринская лошадь» — абсолют лаконизма, цельный и неделимый, как душа. У каждого, досмотревшего ее до финала, «конец света» будет ассоциироваться не с падающей голубой планетой, не с ядовитыми газами и не с торнадо, а с последней картофелиной — съеденной в темноте, одной на двоих.
Алексей Гуськов • 19/03/2012
http://www.openspace.ru/cinema/events/details/35228/?expand=yes#expand
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:36 | Сообщение # 11 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Табуретка и колокол. Как я разлюбил кино Белы Тарра
Одни называют «Туринскую лошадь» Белы Тарра неоспоримым шедевром, другие относятся к фильму весьма скептически. Сегодня мы публикуем в блоге статью Бориса Нелепо. Картина идет в России уже целый месяц, и мы надеемся, что материал уже не сможет повредить прокату.
Необходимое предуведомление. Я был одним из организаторов ретроспективы фильмов Белы Тарра, прошедшей в Москве год назад, которая оказалась сложнейшим проектом. На показ черно-белых венгерских фильмов было нелегко найти спонсоров, пленки нужно было собирать по всему миру, а логистическую акробатику усложнила нестандартная продолжительность лент. К примеру, семичасовое «Сатанинское танго» весит 93 килограмма, его транспортировка обернулась сущим кошмаром. Впрочем, в тот момент мне казалось, что это самая важная работа на свете. Ведь это без оговорок великий режиссер, лишь по какой-то досадной случайности не замеченный широкой публикой.
Но иногда ретроспективы развенчивают мифы: после последовательного погружения в творчество Тарра я пришел к выводу, что режиссер он, может, и своеобычный, но свое место во втором ряду занимает по справедливости. И его прощальный жест под названием «Туринская лошадь» — вовсе не шедевр, а, скорее, прискорбное свидетельство частного творческого поражения.
Наверное, разочаровываться в Тарре приходилось всякому, кто узнавал о его необыкновенном таланте, благодаря вдохновенным рекомендациям Гаса Ван Сента, Сьюзен Зонтаг и других законодателей хорошего вкуса. А затем, вдохновившись величественным «Сатанинским танго» и сюрреалистическими «Гармониями Веркмейстера» (двумя вершинами в творчестве венгра), обращался к его ранним работам, чтобы обнаружить посредственную соцреалистическую трилогию — «Семейное гнездо» (1979), «Аутсайдер» (1981), «Крупноблочные люди» (1982). В этих фильмах молодой Тарр в псевдодокументальной стилистике запечатлевает бытовой ад жизни в условиях развитого социализма — несбыточные мечты о собственных квадратных метрах, семейные склоки, взаимная ненависть обитателей тесных клетушек. Ни режиссерского мастерства Джона Кассаветеса, с которым из-за импровизационного характера постановки иногда сравнивают раннего Тарра, ни жестких формальных структур румын, снимающих вроде бы социальное кино, в этих картинах не найти — только произвольные шматы реальности, случайно выхваченные подвижной камерой. Выходит, треть фильмографии Тарра представляет интерес разве что как документ времени, ну и материал для киноведческого анализа пути режиссера. (См. замечательные тексты Владимира Лукина и Михаила Куртова).
Правда, сам режиссер не желает, чтобы его фильмографию делили на периоды. Это справедливо: у снятого им в двадцатичетырехлетнем возрасте дебютного «Семейного гнезда» и «Туринской лошади» общего гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Впрочем, ранние картины все равно принято снисходительно считать первыми шагами, говоря, что настоящий Тарр начинается после телевизионного «Макбета» (1982) — первого упражнения в визуальном формализме, ставшем его визитной карточкой. Шекспировская пьеса стала предлогом для эксперимента с формой — после пятиминутного пролога следует умопомрачение Макбета, снятое одним нескончаемым планом. Именно этим объясняется распространенная среди поклонников Тарра привычка к подсчету монтажных склеек. В «Макбете» она ровно одна. Замысел не в том, чтобы каким-то новым образом интерпретировать классику или по-новому ее прочитать, а всего лишь передать дух катакомб, в которых происходит действие. Важно не содержание, но атмосфера.
В этом отказе от смыслов заключена вся суть подхода Тарра к кинематографу. Он пылкий враг всякой интерпретации, убежденный противник толковательного приращения смыслов. Во всех интервью он настаивает на самом простодушном восприятии своих работ (буквально — «глазами и сердцем»), почитая символизм за могильщика киноискусства, а слово «метафора» за ругательное, и утверждая, что его камера запечатлевает конкретные предметы. Кошку, кита и лошадь. Стол, стакан и пепельницу. Ничего более. Хотя фильмы его, мягко говоря, противоречат этому постулату. Начиная с «Проклятия» (1988) постоянным соавтором Тарра является писатель Ласло Краснахоркаи. Именно после знакомства с ним на смену реалистическим зарисовкам приходят многозначительные притчи, в которых есть место экзистенциальным вопросам, библейским мотивам, философским установкам. Для Тарра любой разговор об этом — чистая спекуляция, в своем антиинтеллектуализме он призывает зрителя лишь приглядываться к деталям и прислушиваться к основной мысли. Что же это за мысль?
О своем прощании с режиссурой Тарр заявил перед съемками «Туринской лошади», которая по его словам должна стать исчерпывающим объяснением того, почему больше незачем снимать кино. Отправной точкой для фильма послужил апокриф о Ницше, который сошел с ума, став свидетелем избиения непослушной кобылы кучером. Впрочем, и о философе режиссер советует забыть, предлагая узнать историю этого крестьянина, его дочери и несчастной лошади. И неожиданного конца света. Мир развоплощается за те же шесть дней, которые понадобились на его сотворение. Исчезает вода, тепло, свет. «Туринская лошадь» иллюстрирует буквалистский подход Тарра и его теорию необходимости видеть в кино не символы, но конкретные предметы. Это фильм-существительное. В кадре — ведро, колодец, бревна, топор, одежда, кровать, огарок, печь, окно, табуретка, стол, картошка. Пресловутый картофель — один из структурообразующих образов фильма. Его достают голыми руками из кипятка, разминают пальцами, сдирают кожуру, спешно запихивают в рот, несмотря на обжигающий жар. Живописность этой сцены такова, что для многих поклонников одной ее достаточно, чтобы прописать Тарру место в вечности где-то рядом с Ингмаром Бергманом.
Сцена и правда очень красивая. Только повторяется пять раз. Есть, конечно, шанс, что вам она не надоест. По пластическому рисунку и внутренней хореографии эпизод с едоками картофеля напомнил мне другую — по-настоящему великую — сцену: финал «Розетты». Главная героиня фильма братьев Дарденн оказывалась в схожей ситуации: ее мир рушился на глазах, наступал частный апокалипсис, она не хотела больше жить. И Розетта приходит в последний раз в трейлер, в котором живет вместе с пьющей матерью, достает из кастрюли недавно сваренное яйцо, остужает его в холодной воде, несуразным жестом разбивает его о свой лоб, сдирает скорлупу. А затем включает газ, чтобы покончить с собой, и невозмутимо жует. Дальше следует чудо: неравнодушным к своим героям братьям Дарденн становится совсем невмоготу смотреть на ее мучения и вдруг, словно по воле высших сил в баллоне иссякает газ.
И дело вовсе не в том, что пристрастное внимание братьев Дарденн к человеку, к его многомерности, непредсказуемости и слабости — все то, что называют гуманизмом — мне куда ближе, чем однобокие нигилистические схемы Тарра. Просто в тех двух минутах с вареным яйцом куда больше изобразительной силы — через эту деталь художественными средствами воссоздается целый мир, противоречивый и сложный. А «Туринская лошадь» так и остается голым концептом, одной развернутой метафорой (да простит нас за это слово режиссер), положенной на жесткий формальный фундамент и выстроенной на бесконечном кружении. Заключается этот концепт лишь в том, что виртуозные движения камеры запечатлевают однотипный набор поступков, повторяемых героями изо дня в день. К чему клонит автор, становится кристально ясно на исходе первого дня, но впереди еще два часа экранного времени. И на их протяжении по принципу закольцованной инсталляции с небольшими вариациями продолжат повторяться одни и те же события.
Жан-Мари Гюстав Леклезио в своей книге «Смотреть кино» пишет: «Режиссер Робер Брессон вспоминает, как воздействовало кино на своих первых зрителей. „Больше всего нас удивило, — рассказывает он, — что шевелились листья на деревьях“». Людей и сегодня продолжает завораживать движение листьев в кадре. В этом и есть точнейшее объяснение тому, почему я, позабыв о ходе времени, могу с неослабевающим вниманием смотреть одиннадцатичасовые полотна Лава Диаса (филиппинца часто сравнивают с Тарром, но сам он признавался, что так и не смог досмотреть его картины до конца) или структурные фильмы Джеймса Беннинга, где тот запечатлевает ландшафты — дороги, озера, облака. У Тарра по определению не может быть случайного движения листьев в кадре, поскольку созданный им мир предельно искусственен. Эту искусственность подчеркивает и то, что роли отца и дочери в «Туринской лошади» исполнены в противоположных актерских техниках. Зачем Тарру понадобилось делать отца таким картинным и театральным, мне непонятно. По крайней мере, это напрямую противоречит его словам о том, что для него главное — вглядываться в лицо задействованного актера. Впрочем, когда дело доходит до работы с актерами и звуком, перфекционизм режиссера куда-то улетучивается — свидетельством тому служит небрежный дубляж в «Человеке из Лондона» (да и в «Гармониях Веркмейстера» тоже).
В «Туринской лошади» есть объективно неудачная, радикально выбивающаяся из общего стиля, сцена, когда в дом главных героев за палинкой приходит сосед. Странно одетый, напоминающий лицом и повадками Жириновского. Гость неожиданно пускается в пылкий монолог о том, что алчные люди заслужили конец света самим фактом своей неправедной жизни. Контраст с визуально безупречной первой половиной фильма, в которой не произносилось практически ни слова, разительный. На секунду возникает даже ощущение, будто на съемочную площадку в перерыве между дублями прокрался один известный продолжатель дела Тарковского. Но оказывается — это визит самого Тарра. Один из главных поклонников фильма Джонатан Розенбаум, почувствовав крайнюю слабость этого эпизода, настаивает в своей рецензии на том, что наивно принимать произнесенные в пьяном бреду слова случайного гостя за авторскую речь. И в то же время нехитрый посыл фильма сводится к одному: жизнь тяжела, однообразна и приходит к концу. Эту мысль эпизодического персонажа сам режиссер проговаривает в интервью: «Мы встаем с кровати и одеваемся каждое утро, но никто не называет это кошмаром. Тем не менее, что-то не в порядке, что-то разладилось в мире, и это чувствуем мы все. Я никого не осуждаю — я и сам в числе виноватых».
«Туринской лошади» предшествовал «Человек из Лондона» — вольная экранизация малоизвестного романа Жоржа Сименона, пропущенного через тот же формальный прием, что когда-то и Шекспир. Влачащий нищенское существование портовый работник становится свидетелем убийства и вытаскивает из воды оставшийся от жертвы чемодан с деньгами. Смыслообразующий кадр фильма: в своей башне герой достает из чемодана убитого влажные купюры, бережно раскладывает их, сушит на печи. Фирменным длинным планом режиссер запечатлевает, как перебирает счастливец эти сырые бумажки. До апокалиптического кипения доводит сцену навязчивая помпезная музыка (не замолкающая и в «Туринской лошади»), напоминающая зрителям — перед нами исключительного накала человеческая трагедия. Так бы оно и было, если бы эпизод не был поставлен с таким наигранным ужасом, манерной картинностью и морализаторством. Деньги — конечно, презренный металл и об их печальной роли в жизни человека создано немало художественных произведений. И тут я могу вспомнить снова тех же Дарденнов, у которых пачка купюр подчас служит пусковым механизмом фильмов, в которых, мягко говоря, с не меньшей глубиной обыгрываются ветхозаветные сюжеты. «Человек из Лондона» же при всей своей визуальной изощренности лишь простодушно поучителен. Тарр и в другом своем интервью продолжает: «Деньги стали единственным мерилом, что и приведет нас всех к уничтожению — к настоящему, буквальному уничтожению». И это все, что имеет нам сообщить — предположительно — один из величайших наших современников?
Но вернемся к «Туринской лошади». Ее главный недостаток в том, что она глубоко тавтологична по отношению к предыдущему творчеству Тарра, является попросту его упрощенной компиляцией. В «Гармониях Веркмейстера» главный герой столь же буднично вскрывал свои консервы (камера даже снимала его под тем же ракурсом) и в точности так же, как дочь помогает раздеться отцу-крестьянину в «Лошади», разоблачал дядю перед сном. Конец света там тоже был: в одной из красивейших сцен, снятых Тарром — начале «Гармоний» — посетители таверны разыгрывали импровизированный спектакль, объясняющий устройство мироздания, изображая солнце, луну и землю. Рассказчик в подробностях описывает затмение и конец света, а затем — он отступает.
«Все живое замерло. Неужели горы сдвинутся с места? Неужели небеса падут на нас? Неужели земля разверзнется под ногами? Мы не знаем, ибо на нас свалилось полное затмение. Но... Не нужно бояться, это еще не конец. От пылающей солнечной сферы медленно отплывает Луна. И Солнце разгорается, как прежде, и вновь его свет медленно нисходит на Землю, и вновь ее наполняет тепло. Всех охватывает небывалая радость: пришло избавление от гнетущей тьмы».
К чему вообще нужно было снимать ремейк первых десяти минут «Гармоний Веркмейстера», так преуменьшив его многозначность и многообразие смыслов?
Возможно, Тарр тогда был немного другим. Когда в лучшей сцене его лучшего фильма «Сатанинское танго» умирала героиня, несчастная девочка, она знала — как сообщал закадровый голос — «что ее ангелы уже летят к ней и улыбалась от того, что могла постичь связь всех вещей». А в «Гармониях» почтальон за сто форинтов ходил смотреть на чучело огромного кита и, вглядываясь в неживой глаз, видел там Бога, дивясь сложности устройства всего сущего. Тогда режиссер еще задавал вопросы, верил в целесообразность сомнений. А потом устал, начал нравоучительно чеканить прописные истины. И потому смотреть его стало невероятно скучно — как беседовать с человеком, непререкаемо убежденным в своей всегдашней правоте. Велик соблазн воспринимать «Туринскую лошадь» и отказ от дальнейшего творчества — как последнее символическое явление большого кино двадцатого века, окончательно распавшегося в последнее десятилетие на архипелаг «неизвестных режиссеров нулевых». Но Тарр ближе скорее не к большим классикам, а к малым авторам, занимающим свою скромную нишу и последовательно разрабатывающим свою эстетику — как, например, Шарунас Бартас или Натаниэль Дорски.
Как и в их работах, во всех фильмах Тарра меня подкупает в первую очередь только одно — их отменная ручная выделка. Перед съемками «Человека из Лондона» режиссер объездил все портовые города Франции, чтобы найти тот самый, который передавал бы его ощущение от текста Сименона. В «Туринской лошади» для него самым главным стал подготовительный период съемок, когда был найден необходимый дом, под руководством режиссера вырыли колодец, затем выстроили сарай для лошади. Но этим творческие поиски ограничились — фильм вышел в точности таким, каким его только и можно было представить, слушая рассказы автора перед съемками.
Природе и фундаментальной сути режиссуры (и творчества вообще) был посвящен «Андрей Рублев». Там заикающийся мальчик Бориска вызвался отлить колокол, сказав, что отец перед смертью передал ему секрет литья, хоть на самом деле тот умер, ничего не сообщив. Вот и ходит мальчик сам не свой под проливным дождем, приказывает колокольным мастерам своими руками копать яму, ищет особую, одному ему ведомую глину, месит ногами грязь, кричит, плачет, сомневается. Никакой тайны он не знал, а колокол зазвонил.
Бела Тарр, снимая «Туринскую лошадь», знал все ответы наперед, поэтому погрузился только в вопросы формального ремесла. Что ж он снял несколько самых красивых кадров в своей жизни. С воображением были проложены операторские рельсы, по которым движется камера, снимая тщательно рассчитанные пространные планы (в фильме тридцать склеек). Использовалась только настоящая черно-белая пленка с характерным зерном, только с 35-мм Тарр и разрешает показывать свой фильм в кинотеатрах. Эффектно нагонялись воздушные потоки установленным на съемочной площадке специальным ветродувом. Режиссер призывает приглядываться только к конкретным предметам, на мастерское изображение которых он положил столько сил — например, на табуретку, в оцепенении сидя на которой, проводят у окна большую часть экранного времени герои. Она уникальная, единственная в своем роде, со своей неповторимой древесной фактурой.
Всё так. Только кино не уподобляется столярному мастерству. Эта табуретка не зазвонит.
17 апреля 2012
http://seance.ru/blog/taburetka-i-kolokol/
|
| |
|
|
|



