|
"ПЕРВОРОССИЯНЕ" 1967
| |
| Александр_Люлюшин | Дата: Четверг, 25.07.2013, 23:01 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 3346
Статус: Offline
| «ПЕРВОРОССИЯНЕ» 1967, СССР, 78 минут
– оптимистическая драма по поэме Ольги Берггольц «Первороссийск» о рабочих Нарвской заставы Петрограда, приехавших в 1918 году на Алтай строить первую земледельческую коммуну
 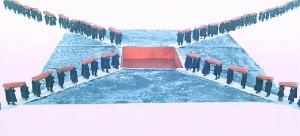 
  
  
  
  
Это несколько историй, каждая из которых рассказана в своем цвете и сопровождается своей музыкой. Именно авангардная эстетика, вызвавшая негативную реакцию партийного руководства, лишила фильм прокатной судьбы, но сделала его легендой.
Съёмочная группа
Режиссёры: Александр Иванов, Евгений Шифферс
Художник: Михаил Щеглов
Сценарий: Ольга Берггольц
Оператор: Евгений Шапиро
Композитор: Николай Каретников
Директор фильма: С. Рабинов
В ролях
Владимир Заманский
Лариса Данилина
Геннадий Нилов
Инна Кондратьева
Виктор Смирнов
Владимир Маслов
Александр Бондаренко
Юлиан Панич
Иван Краско
Наталья Климова
Интересные факты
Формально постановщиком фильма считается Александр Иванов, руководивший на «Ленфильме» одним из лучших объединений в истории советского кино (где снимали Элем Климов, Геннадий Полока и другие классики). Но ставил «Первороссиян» ленинградский театральный режиссёр Евгений Шифферс. Фильм решен силами театральной эстетики. Оппозиционным оказалось не содержание, но форма, на нее и прореагировало государство. Поскольку в роли Ленина снялся народный артист СССР Владимир Честноков, как раз получивший Госпремию за образы вождя, фильм не запретили. Его выпустили крошечным числом копий, в прокате он провалился. А когда стали исчезать проекторы для 70-миллиметровой пленки, на которой ленту снимали, судьба её была предрешена. Единственная копия осталась в Госфильмофонде.
Долгие годы фильм не был доступен для просмотра (позитив не сохранился, а негатив лежал в кино-хранилище в Белых Столбах). Вернул его к жизни Владимир Юрьевич Дмитриев, историк кино, главный хранитель бесценной киноколлекции Госфильмофонда, идейный вдохновитель уникального фестиваля архивных фильмов «Белые столбы».
Смотрите фильм
http://vk.com/video16654766_164282100
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:21 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Евгений МАРГОЛИТ.
ТАКОЕ КИНО
(В контексте кинопроцесса)
«Ощущение такое, что перед нами какое-то нарочитое “антикино”: отрицание движения, отрицание киномонтажа, отрицание всякой иллюзии реальности. “Первороссияне”—коллекция композиций и портретов. Это и впрямь не “кино”, это скорее—альбом цветных фотоиллюстраций к поэме Ольги Берггольц, почему-то показанных через кинопроектор»1.
Для зрителя эпохи создания картины (даже такого высококвалифицированного, как Лев Аннинский, который в замечательной статье 1971 года «Три звена» описывает свои впечатления от ее единственного, кажется, клубного показа) «Первороссияне» смотрелись явлением едва ли не маргинальным. Сам по себе исходный материал: история создания, с благословения Ленина, и гибели коммуны питерских рабочих на Алтае—для кино 1960-х ничего уникального не содержал. Вопиюще непривычным было оформление этого материала. В кино 1960-х пафос историко-революционного фильма—прежде всего прорыв к подлинному облику эпохи первопредков сквозь официальный миф. Камера воссоздает точку зрения очевидца, находящегося внутри событий: вот как было все на самом деле. Идеал—документ (Юлий Карасик, приступая к работе над «Шестым июля», подумывал даже снимать на скорости 16 кадров в секунду, чтоб было уже полное ощущение старой хроники). А здесь вместо изобилия лиц, деталей, предметной плотности аскетичного черно-белого изображения—серия цветовых ударов буквально «под дых», заведомая живописно-плакатная условность театрального действа. Серия кадров-знаков. К моменту просмотра уже был сформирован опыт «поэтического кино» (впрочем, критики и к нему относились настороженно, что в цитируемой статье Аннинского очевидно)—но там форма объяснялась хотя бы «фольклорной основой». А здесь она воспринималась исключительно как произвол создателей, ничем иным не объяснимый.
Вот преимущество историка перед критиком: обозревая кинопроцесс в целом, он точно знает, что «под небом места хватит всем». Появляется только то, что может и должно появиться. За пределами эпохи создания открывается действительный смысл, цель возникновения того или иного явления. Собственно, о логике, даже о механизме возникновения явления, о неожиданных потенциях, которые оно в себе содержит, и пойдет речь.
Преимущество же критика перед историком состоит в остроте и свежести—непосредственности восприятия явления. Историк его логику осмысляет и описывает, критик как барометр общественных настроений ощущает ее буквально кожей. Настоящий критический текст—это, прежде всего, реакция зрительского организма на раздражение. Раздражает—значит, действительно существует, присутствует в кинопроцессе. А оценка—положительная или отрицательная—дело вторичное. Поэтому формулировки искренне раздраженного критика содержат—как правило!—больше смысла, чем он сам в них сознательно вкладывает.
I
Что представляют собой «Первороссияне» в контексте умонастроений своего времени?
«Eсли для авторов фильма коммунистическая убежденность “первороссиян” всего лишь новая религиозная вера, то не могу скрыть возникающей у меня мысли: неужели А.Иванов сознательно исповедует в своей картине эту более чем странную идею?»2—это опять Лев Аннинский, самый чуткий критик «постоттепельной» эпохи.
Разумеется, режиссер «Подводной лодки “Т-9”», «Звезды» и «Солдат», почтенный Александр Гаврилович Иванов подобной идеи не исповедовал. Но с большим интересом, судя по воспоминаниям очевидцев, воспринял образную концепцию своего энергичного молодого сорежиссера Евгения Шифферса, о театральных постановках которого уже несколько лет говорил весь Ленинград. Не лукавил ли проницательный критик согласно правилам игры (на дворе-то не 1967-й, а 1971-й год, и печатается статья в «Искусстве кино», где за пару лет до того сменили всю редакцию по причине ее заведомо оттепельного вольнодумства), вводя деликатные «всего лишь» и «более чем странно»? Ибо носится в кинематографическом воздухе уже несколько лет и не исчезает какой-то ощутимо неканонический интерес к историко-революционной тематике. Накануне полувекового юбилея события, торжественно именовавшегося Великой Октябрьской социалистической революцией, наше кино оказывается занято отнюдь не юбилейной проблемой постижения подлинной сути революционной идеи. Достигается же оно через ее индивидуально-личностное переживание. Собственно, это переживание и делает идею истинной в противовес не рассуждающему следованию догме. Но при таком раскладе в идеологических противниках, сошедшихся в битве не на жизнь, а на смерть («В огне брода нет», «Служили два товарища», «Шестое июля» и др.), обнаруживается больше принципиального родства, чем различий. Тем трагичней их неизбежное взаимоуничтожение, в результате которого пространство начинает всецело принадлежать заурядным персонажам, живущим исключительно обыденным, сиюминутным.
Противостояние идей оборачивается в действительности противостоянием наличия идеи ее отсутствию. В конечном счете—противостоянием веры безверию. Суть—в наличии Веры как таковой. Существительное здесь принципиально значимее прилагательного. «Если бы вы верили в своего аллаха, как я верю в революцию!»—в отчаянии кричит своему взбунтовавшемуся и ушедшему к басмачам отряду герой «Седьмой пули»—и возвращает-таки соратников силой своей веры. Но «Седьмая пуля» выйдет в 1973-м, а до того Николай Мащенко в 1969-м разместит портреты-лики персонажей «Комиссаров» в арочных сводах монастыря, а еще годом раньше Лариса Шепитько стилизует под иконописные лики портреты персонажей платоновской «Родины электричества» (киноальманах «Начало неведомого века», до выхода ее «Восхождения» еще восемь лет). Религиозная ли символика служит тут метафорой революционной идеи как новой веры, или, напротив, революция оказывается метафорой веры религиозной—с точным ответом будет сложно: границы размываются все больше и больше. Недаром тот же Е.Шифферс вскоре уйдет в религиозное диссидентство, а сценарист Фридрих Горенштейн, чье участие в работе над «Седьмой пулей», «Первым учителем», «Без страха» принципиально, уедет из СССР и создаст роман с красноречивым названием «Псалом».
Наличие всеобъединяющей идеи, наполняющей смыслом каждый момент повседневной жизни, стало открываться нашему кинематографу, как только она из этой жизни ушла. Открываться именно через уход, через смутное ощущение пустоты, возникшей на ее месте. Пик единения пришелся на 1961-й: военное и послевоенное братство принесло поистине волшебные плоды—мы запустили человека в космос, предшествующая эпоха завершена. Но вместе с нею завершилось, как оказалось, и всеобщее единение. Революция, гражданская война, даже Великая Отечественная при всей своей значимости были все же конкретными, а, значит, преходящими, историческими эпохами. Соответственно, преходящими оказались и формы всеобщего единения, ими вызванные. «Застава Ильича» в настоящем времени говорит о том, что именно в этот момент становится временем прошедшим. Отсюда—декларативный надсад заклинания в попытках авторов дать этой идее имя, особенно в финале. С «Заставой Ильича» выходят безмятежно-солнечные «Я шагаю по Москве», «Человек идет за солнцем», «Путешествие в апрель», чьи герои празднично растворены в жизненном потоке. «Мне двадцать лет» выходит в один год с «Тенями забытых предков»: носитель личностного сознания одинок в красочном коллективистском языческом космосе. «Первороссияне» снимаются параллельно с работой—на разных стадиях—над «Июльским дождем» и «Тремя днями Виктора Чернышева». По точному выражению Аннинского (той же поры), из повседневности уже выкачан поэтический воздух, размеренное течение сменилось хаотичным броуновским движением.
Значит, чтобы обозначить контуры идеи, действительно вечной, действительно всеобъемлющей и всеобъединяющей, нужно по максимуму очистить экранное пространство от всякой конкретики, всякой сиюминутной случайности, от конкретики исторической, наконец. Так возникает у нас—а точнее взрывается—в середине 1960-х «поэтическое кино», к которому принадлежат «Первороссияне».
«Каждая деталь существенна. Существенно все, что изображено в кадре, существенны его композиция, цвет, существенно решительно все. <…> Движение сюжета возникает не в динамике, но в просматривании кадров, которые на экране переходят один в другой, сталкиваются, “длятся”, а также в сопоставлении отдельных картин. Монтаж тут не нужен, он лишний»3.
«Это форма протеста против воспроизведения на экране простых случаев “из жизни”, против неосмысленности натуралистической всеядности и случайности; притча всегда осмыслена, сюжет притчи всегда не “случай”, а “пример”; она всегда подчеркивает логику, идею, мораль»4.
Эти характеристики взяты из статьи (а точнее мини-монографии) Михаила Блеймана «Архаисты или новаторы». Опубликованная в журнале «Искусство кино» в 1970-м, эта работа, столь же недоброжелательная, сколь и проницательная, принесла автору репутацию чуть ли не могильщика «поэтического кино». Меж тем по полноте описания феномена она и по сей день остается наиболее глубокой, серьезной и подробной.
Так вот, главный упрек направлению у Блеймана состоит в том, что все жанровое многообразие оно сводит к притче. А «…притча сводит всю пестроту, все многообразие жизнедеятельности к нравственному экстракту, моральной абстракции. В притче всякий простой и естественный жизненный факт становится символичным и аллегоричным. Поскольку притча выражает абстрактные понятия, она служит им»5. Каково бы ни было отношение к факту самого критика, фиксирует его он совершенно точно. И умалчивает столь же красноречиво и информативно, как и говорит. Ведь идеей, преодолевающей историческую конечность, может быть лишь идея религиозная. А притча в нашем культурном контексте связана прежде всего со Священным Писанием. Основная коллизия «поэтического кино»—столкновение доличностного коллективистского сознания с вызревающим внутри него личностным—дается, начиная с «Теней забытых предков», непосредственно как столкновение сознания языческого и христианского. И «Первороссияне» демонстративно строятся по принципам религиозной мистерии: один из будущих коммунаров осеняет себя крестом в первом же кадре первого эпизода, посвященного поклонению искупительной добровольной жертве—похоронам жертв революции на Марсовом поле. А враждебный им мир—от столицы Империи до староверской общины—последовательно дан через языческие изваяния каменных и резных деревянных «кумиров»6. Так что отдадим еще раз должное деликатности Аннинского, отметившего, что «…в фильме нагнетается мысль о мученичестве, подвижничестве, почти Голгофе коммунаров». Разумеется, на самом деле мотив Голгофы тут один из важнейших без всякого «почти».
Собственно, похоже, что для Евгения Шифферса весь историко-революционный антураж фильма есть чистая условность—не более (но и не менее) чем повод, предлог для создания мистерийного действа на экране. «Первороссияне» звучит как «первохристиане» (а поэма О.Берггольц, по которой поставлен фильм, называлась несколько иначе—«Первороссийск»). Наличную реальность в фильме гримируют и превращают в гигантскую декорацию («теперь <...> ясно, зачем Надя красит Кавказские горы: просто-напросто она гримирует натуру точно так же, как Лена Борейко гримирует актеров»,—радостно догадывался автор репортажа со съемок «Первороссиян» в «Советском экране»)7.
«Содержание превращено в декорацию, а декорация становится содержанием»8. И опять прав суровый автор «Архаистов или новаторов», быть может, более прав, чем предполагает! Декорация здесь—знак преходящести, временности, сменяемости любой конкретной формы воплощения идеи. Она поэтому не демонстрирует истинный смысл, но указывает, что он находится не в ней, но за ней. Действо, в декорации разыгрываемое, есть отблеск истинного смысла, указание на его присутствие вне ее. Замечательные актеры в «Первороссиянах» (как, впрочем, и в подавляющем большинстве образцов «поэтического кино») сознательно использованы в функции статистов: не потому ли, что представляют собой один из элементов этой декорации? Они не являются персонажами в полном смысле слова, но обозначают их.
Эта эстетика оформляется в 1960-е во многом через острый интерес к авангардным традициям «Серебряного века»—и театральным, и живописным. Прочный союз режиссера Евгения Шифферса и художника Михаила Щеглова, возникший еще в театре, основывался, помимо прочего, и на их общей увлеченности авангардной эстетикой, возникшей в предреволюционную эпоху, для которой обращение к жанру мистерии чрезвычайно характерно.
Как формулирует современный исследователь, профессор СПбГУ Константин Исупов: «В “Серебряный век” мистерия понимается как экзистенциальная драма жизни, для которой характерны: 1) заданность сакрального сюжета («Голгофа»); 2) жертва в качестве ситуативного центра; 3) мотив искупления»9. Приложите это определение к основным образцам «поэтического кино», хотя бы упомянутым Блейманом, от «Мольбы» и «Вечера накануне Ивана Купала» до «Цвета граната»—работает! Да так, что поневоле заподозришь в термине «поэтическое кино» деликатный эвфемизм.
В соответствии со всем этим строились отношения «поэтического кино» с массовой аудиторией—уникальные по своей агрессивности. Сама форма с ее изматывающей «перенапряженной значительностью кадра» (М.Блейман) не есть ли вызов пребывающей в броуновском движении толпе, чья «общая мечта день ото дня насущным и полезным отчетливей, бесстыдней занята»? Режиссер—как демиург-создатель—берет на себя роль не проповедника даже, но грозного пророка, обращающего кадры-инвективы коснеющим в безверии. Видимо, такая зрительская реакция и предполагалась при создании. И в редкостно единодушной неприязни к этому кинокритики 1960-х—критики в полном смысле слова художественной, живой, не стесненной официозными идеологическими шорами,—сквозит, похоже, ее чисто зрительская уязвленность. Пожалуй, только зарождающаяся «киноманская» аудитория киноклубов с ее жадностью ко всякому нетривиальному художественному жесту в атмосфере вялой позднесоветской буржуазности проявила к «поэтическому кино» интерес—недаром же сдвоенный показ в широкоформатном кинотеатре «Мир» «Первороссиян» и «Вечера накануне Ивана Купала» Юрия Ильенко, который описывает Аннинский в своей статье, был в Москве одним из самых громких клубных просмотров конца 1960-х.
В своей тотальной «визуальности», в демонстративном отказе от опоры на звучащее слово «Первороссияне», как и все фильмы этого ряда, были чистым экспериментом. Речь не просто о поиске новых способов кинематографической выразительности, но, быть может, и об обнаружении ее пределов. Так что и здесь был прав М.Блейман, утверждая, что вариант «школы»—как он именовал это направление—тупиковый. Но в таком своем едва ли не сознательно самоубийственном качестве испытательного стенда это кино адресовано, конечно же, собственно кинематографической, а не зрительской аудитории.
II
«С другой стороны, кино—это язык»
А.Базен
Здесь срабатывает внутренняя логика кинопроцесса.
А она, безусловно, реагируя на социально-политические обстоятельства (об этом и шла речь выше), подчиняется в своем развитии собственным законам. Эпоха в искусстве не может завершиться до тех пор, пока не будут исчерпаны художественные тенденции, ее движущие. Декреты партии и правительства магической силы не имеют—этапы истории и этапы развития искусства напрямую не совпадают. Поэтому максимальную полноту и яркость картина нашего кино и обретает не в середине, скажем, 1960-х, но к концу десятилетия, в 1968–1969 году, когда все оттепельные иллюзии давно развеяны.
Кино 1960-х связано для нас, прежде всего, со сверхдостоверностью фактуры, пресловутым «документализмом». «Все остальное—язык, философия, эмоциональное наполнение—к этому прикладывалось. Оно развивалось из фактуры»10,—уже сегодня утверждает Андрей Кончаловский, и он-то знает, о чем говорит! Так вот, к середине 1960-х в освоении реальной фактуры наше кино достигло совершенства. И логично предположить, что в таком случае на противоположном полюсе в ответ должны были начать накапливаться новые тенденции. В противовес пространству реальному должно было возникнуть пространство откровенно условное, причем эту условность не только не маскирующее, но прямо настаивающее на ней. Для того чтобы та или иная художественная идея реализовалась, в ней должна возникнуть потребность—так, скажем, в 1965-м были встречены «Тени забытых предков» Параджанова (при том, что в 1957-м прямо предвосхитивший их фильм Марка Донского «Дорогой ценой» на родине был воспринят не более чем досадное недоразумение). Вот почему художник и полноправный соавтор «Первороссиян» Михаил Щеглов, безуспешно рвавшийся из театра в кино с самого начала 1960-х, именно во второй половине десятилетия оказывается в кинематографе и ко времени, и к месту со своими неожиданными установками: теперь его уже ждут. «Художника, о котором всегда мечтал», увидел в нем, например, режиссер Геннадий Полока, проработавший потом со Щегловым три десятилетия—от «Интервенции» до «Возвращения броненосца».
Имя Полоки возникает здесь не случайно. Словечко «антикино», брошенное Львом Аннинским в уже цитированной статье по адресу «Первороссиян», по признанию создателя «Интервенции» и «Одного из нас» (сделанному на недавней премьере «Первороссиян» в дни Московского кинофестиваля), уже в середине 1960-х, оказывается, стало паролем, объединившим таких разных кинематографистов как Сергей Параджанов, Владимир Мотыль, Николай Рашеев, Александр Митта. «Антикино» звучит вызывающим аналогом таким ходовым терминам той эпохи как «антироман» или «антитеатр». И суть его, как тот же Полока объяснит десять лет спустя, уже в середине 1970-х, на обсуждении выставки работ Щеглова, состоит в следующем. Традиционно киноизображение стремится преодолеть плоскостной характер экрана. В противовес этой традиции приверженцы «антикино» настаивали на использовании плоскостности, последовательного обыгрывания ее в киноизображении. Каждый кадр в этом случае стремится к завершенности—смысловой и, соответственно, композиционной. Не просто к живописному, но к фронтальному фресковому построению, которое демонстративно противопоставляет себя жизнеподобию.
И здесь несколько слов об одной выразительной исторической рифме к этому явлению.
Не зря энтузиастов «антикино» интуитивно тянуло к изобразительной традиции украинского кино, известной им, прежде всего, по фильмам Довженко. Аналогичная философия киноизображения была разработана на Украине еще во второй половине 1920-х в преддверии кризиса «монтажного кино». По мнению ее создателя, для того, чтобы стать подлинным искусством, рассчитанным на века, кино «должно избежать всего преходящего, фельетонного, случайного. Оно должно оперировать только родовыми понятиями вещей». Соответственно, «…материал должен быть преобразован до съемки. Человек, вещь, природа должны быть организованы художником, декоратором, которые изменили бы их пропорции»11. А далее материал уже должен быть преображен самой съемкой, то есть оптически. Киноизображение необходимо освободить от стереоскопичности—«… фильм должен быть такой же плоскостной, как и картина живописца, почти такой плоскостной, как египетская фреска, как старинная икона». Если кино—утверждал автор концепции—окно в мир, то «…идеальные фильмы <...> лишь рисунок на матовом стекле, которое вставлено в окно. И назначение такого стекла скрывать жизнь от зрителя. Это даже не рисунок, а лишь философия на матовом стекле»12. Эту философию ее автор определяет как «возрождение кинематографии, раскрепощение ее от натурализма». Наглядная перекличка с парадоксальными установками создателей «Первороссиян» тем более выразительна, что о существовании этой философии они знать не могли, ибо к фотографу и оператору Алексею Калюжному—автору этой теории—время оказалось особенно беспощадно, уничтожив не только его самого, но и важнейшие его труды. Не сохранился снятый им легендарный «Ливень» с выразительным подзаголовком «Офорты к истории гайдаматчины», где дебютировал в качестве режиссера знаменитый скульптор-авангардист Иван Кавалеридзе, увлеченный концепцией Калюжного. Не уцелело ни одного экземпляра рукописи его теоретического труда по операторскому мастерству. Эссе поэта Николая Ушакова в его книге «Три оператора», выпущенной на украинском языке в 1930-м году (откуда и приведены цитаты)—сегодня практически единственный источник информации* (*В 2002 году текст Ушакова был републикован: «Киноведческие записки», №56. (Прим. ред.).
Но именно Калюжному как педагогу принадлежит заслуга создания уникальной украинской операторской школы—своим учителем в операторском мастерстве его называл даже Даниил Демуцкий. А Николай Топчий, четверть века спустя снявший «Дорогой ценой» Донского, начинал у Калюжного ассистентом на «Ливне»...
Так вот Н.Ушаков, изложив в своем очерке-эссе концепцию Калюжного, заметил: «Оставалось только найти подходящую тему...»13 Тонкий поэт, он уловил здесь одну чрезвычайно существенную закономерность: в искусстве новое языковое средство зачастую входит в художественный обиход раньше, чем определяется предмет, который оно может описывать. Можно сказать, что оно оформляется в предощущении предмета. Но это происходит не ранее, чем достигает совершенства (а, значит, и становится на грань исчерпания) противоположная тенденция в художественном процессе. «Монтажное кино» в 1920-е годы исполняет ту же роль, что и «фактурное» в 1960-е. Индивидуальное авторское открытие Калюжного в 1926–1928 гг. находит воплощение лишь в отдельных экспериментальных сценах из полуслучайных фильмов случайных режиссеров—Кавалеридзе с идеей «Ливня» возникает только на рубеже 1928–1929 гг., когда монтажная поэтика уже окончательно утвердила себя как ведущая. «Ливень», судя по многочисленным описаниям и сохранившимся фотокадрам, с его массовкой, вызывающе снятой на фоне черного бархата (вечность? «тьма веков»?) в павильоне 30 на 20 метров, для конца 1920-х играет ту же роль, что «Первороссияне» для конца 1960-х. И исполняет ту же функцию: обозначает крайний вариант, предел новой эстетики. Вариант едва ли не осознанно самоубийственный, о чем шла речь выше.
И вот что еще принципиально объединяет «Ливень» с «Первороссиянами», да, впрочем, и все «поэтическое», «мистерийное» кино: подчеркнутая условность, декоративность экранного пространства как знак его сакрализации. (Кстати, и Демуцкий, и Калюжный непосредственно накануне перехода в кино, уже будучи признанными мастерами художественной фотографии, работают фотографами в украинском авангардном театре—интерес его лидера Леся Курбаса к мистерии общеизвестен, равно как и связь эстетики «Ливня» со знаменитыми «Гайдамаками» в театре «Березiль»). Фокус, однако, в том, что в таком виде, в таком качестве эстетика «антикино» пребывает бурно, но недолго—до начала 1970-х. К тому времени, когда «поэтическое кино» фактически запрещают, оно успевает продемонстрировать очевидные признаки окостенения-умирания (по крайней мере, в канонической своей форме), как и предсказывал Блейман в «Архаистах или новаторах».
Дело в том, что тотальная условность-плоскостность экранного изображения приводит к парадоксальному результату. На декорацию взваливается задача одновременно обозначать прямо противоположные понятия—условное и безусловное, вечное и преходящее. Быть, по сути, сюжетной разверткой «трехмерного пространства в двухмерной плоскости»: так отзывается «раскрепощение от стереоскопичности». И, не вынеся тяжести взваленной на нее задачи, декорация с треском разваливается. Именно тогда в полной мере начинает «работать» плоскостной характер декорации, именно тогда она обнаруживает свой подлинный образный смысл.
Примечательно, что следующий за «Первороссиянами» фильм—первую совместную с Полокой работу «Интервенция»—М.Щеглов строит, казалось бы, на том же принципе тотальной условности и даже на аналогичном (историко-революционном) материале. Меж тем ни на какую сакрализацию пространства здесь нет и намека—торжество самодовлеющей театральной игры, не требующей соотнесения ни с какой реальностью—ни с сакральной, ни с исторической. Идеальная—без натуги—постмодернистская работа. Задача на самом деле чисто технологическая—создатели опробуют выразительные возможности только что открытого нового приема. Режиссер во время съемок деликатно определяет жанр как «дружеский шарж на историко-революционные фильмы»—если здесь что соотнесено, так только одна заведомая нереальность с другой, еще более очевидной. Официальная схема тут не преображается, как это произошло в «Первороссиянах»—она лишь становится поводом для создания карнавализованного зрелища, стилизованного под высокий театральный авангард 1920-х годов. Но слово «шарж» сказано—и в «Интервенции» возникает пока не реализованная возможность соотнесения декоративной эстетики непосредственно с плоскостностью штампованного официального сознания. И возможность эту Полока со Щегловым не замедлят реализовать в следующей работе «Один из нас»—блистательной стилизации под шпионские советские фильмы конца 1930-х, где пространство, декорированное в избытке разнообразной наглядной агитацией, идеально выразит мировосприятие центрального героя. Собственно, сама жанровая структура (а предложенный режиссеру сценарий фильма написан был абсолютно всерьез) оказывается тут аналогом декорации. Ибо условное жанровое время, ведущее героя к победе и только к ней, соотнесено со временем историческим—действие победоносно завершается в ночь на 22 июня 1941 года.
Декорация здесь уже не знак, но, по высказыванию Эйзенштейна, «образ костенеющий и превращающийся в условный символ»14. Развенчание претензий «на вечность» ветшающей социальной системы становится с начала 1970-х основным—десакрализующим—смыслом присутствия в самых разнообразных видах подчеркнуто плоскостной декорации в отечественном кино. Плоскостность теперь и выступает, прежде всего, как образ неполноты официального коллективистского сознания. Виктор Филимонов в своей работе «Закон красного коня», единственной в нашем киноведении детально исследующей в культурологическом аспекте оппозицию «натура—декорация», прямо характеризует отечественный кинематограф 1970-х как «экранное пространство, загроможденное обломками невиданно мощной, казалось, декорации тоталитарной системы»15. Отсюда гротескный переизбыток средств наглядной агитации и пропаганды—стендов и транспарантов с лозунгами, киноафиш как функционального фона—в кинематографе Полоки—Щеглова. По тому же принципу подспудно выстраивается, начиная с пролога, экранное пространство «Калины красной» В.Шукшина или совсем уж вызывающе условное пространство «Романса о влюбленных» А.Михалкова-Кончаловского—этой эпитафии советскому коллективистскому сознанию. Или его же «Сибириада». Можно вспомнить парадно фронтальные, чуть ли не фресковые композиции «Прошу слова» Г.Панфилова—как своего рода портрет официального сознания «номенклатурной» героини (примечательно, что снимал картину оператор «Мольбы» Александр Антипенко). Собственно, в качестве декорации выступает и традиционный жанровый канон со всем его антуражем: тот же «шпионский фильм» в «Одном из нас», криминальная мелодрама в «Калине красной», вестерн в «Белом солнце пустыни» В.Мотыля или упоминавшейся выше «Седьмой пуле» А.Хамраева, «роман-эпопея» в «Сибириаде» и т.д. Примеры можно множить, как говорится, до бесконечности.
Вопрос в другом: за счет чего декорация выявляет этот свой смысл?
За счет принципиальной избыточности героя, который теперь подается в процессе постоянного, бесконечного становления. Это вечное становление и обнажает преходящий характер любой социальной системы—человек по самой своей сути всегда будет шире, больше ее. Человек перерастает ее, как вырастает из старых одежд—отсюда, кстати, неизбежный эксцентрический карнавальный «привкус» этого кинематографа, где центральными персонажами становятся «странные люди»: «чудаки» и «чудики», «желающие странного». В контрасте с этой объемностью, многомерностью героя декорация и открывает свой плоскостной, условный характер. Тот бунт против «иллюзии стереоскопичности», который подняли приверженцы «антикино» на пространстве от «Первороссиян» до «Интервенции», увенчался победой стереоскопичности—но не «иллюзорной», а подлинной. Глубинное пространство, если оно и открывается в кадре за обломками декорации, оказывается теперь знаком становления духовного—индивидуально-личностного. Не более, но и не менее.
Так какова же роль «Первороссиян» в этом внезапно закрутившемся сюжете? «Неведомый шедевр»? Вряд ли—слишком четко поставлена исходная задача, задача, в первую очередь, формальная, едва ли не технологическая: максимальное использование плоскостности экранного изображения. Самое случайное—исходный материал; куда более принципиален и обусловлен временем создания принцип его оформления. Шедевр возникает иначе—уже в процессе съемочного диалога с материалом реальности, который начинает, в конце концов, диктовать художнику принципы своего оформления. Так возникли «Тени забытых предков»—покойный Ефим Левин рассказывал, как чуть ли не всей студией во время монтажа «Теней…» буквально держали за руки Параджанова, пытавшегося выбросить весь материал, снятый движущейся камерой. Последовавший за параджановским фильмом «Родник для жаждущих»—режиссерский дебют оператора «Теней...» Юрия Ильенко—будет построен уже на принципиальной статике камеры. Но «Родник...» по-тихому прикроют на республиканском уровне—в Москве и Ленинграде его, кажется, так и не увидели. «Кто вернется—долюбит» Леонид Осыка снимает одновременно с «Первороссиянами». «Мольба» только задумана. Таким образом, выходит, что фильм Шифферса—Щеглова первый в этом ряду, которому предшествует четко и скрупулезно сформулированная исходная концепция—не потому ли большинство мемуаристов упоминает непременно о режиссерском сценарии «Первороссиян», где зафиксированы мизансцены и цветовые решения, неукоснительно и слаженно воплощавшиеся затем на съемочной площадке?
Впрочем, по логике кинопроцесса самым существенным результатом оказывается незапланированный. Здесь это—откровенная декоративность условного действа, принципиально возведенная в концепцию. В уже цитированной работе В.Филимонов усматривает в оппозиции «натура—декорация» естественную конфликтность простейшего (домонтажного) изображения. Опытов подобного рода немало в кино первой половины ХХ столетия—и приверженцы «антикино» не случайно опирались на опыт позднего Эйзенштейна времен «Ивана Грозного», как не случайно за несколько лет до того отрицал его Тарковский, приступая к работе над «Андреем Рублевым». Но именно после экспериментов—самоубийственных экспериментов!—«поэтического кино» оппозиция «натура—декорация» впервые начинает на рубеже 1960-х—1970-х осознаваться и реализовываться как сюжетообразующая в целом. «Высокая» мистерия и карнавальный балаган обнаруживают свое принципиальное родство.
И, видимо, фильм «Первороссияне» исполняет ту же роль, что и его персонажи: искупительной жертвы, которая принесет в будущем свои плоды.
1. А н н и н с к и й Л. Три звена // Искусство кино. 1971. № 9. С. 145.
2. Там же. С. 145.
3. Б л е й м а н М. О кино—свидетельские показания. М.: Искусство, 1973. С. 520.
4. Там же. С. 528.
5. Там же. С. 528.
6. По поводу последнего кадра с памятником Ленину, буквально приклеенному вопреки намерениям Е.Шифферса и М.Щеглова автор-составитель замечательной книги о Щеглове «Распятый шут» Л.Лонгина точно отмечает: «…по логике, а не по художественным принципам, памятник почти вписался и как бы замкнул цепь «бронзовых истуканов», которые нависали грозно над происходящим с первых кадров пролога…» (Распятый шут. Книга о художнике Михаиле Щеглове. СПб, 2003. С. 117–118).
7. Я г у н к о в а Л. Героическая легенда // Советский экран. 1966. № 24. С.12.
8. Б л е й м а н М. Указ. соч. С. 518.
9. И с у п о в К. «Мистерия» // Электронный словарь. http://russidea.rchgi.spb.ru/ideasin....D=2067.
10. К о н ч а л о в с к и й А. Низкие истины (7 лет спустя). М.: Эксмо, 2007. С. 147.
11. У ш а к о в Н. Три оператори. Киiв. 1930. С. 33—34.
12. Там же. С. 33.
13. Там же. С. 34.
14. Цит. по: И в а н о в В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука, 1976. С. 164.
15. Ф и л и м о н о в В. Закон красного коня // Киноведческие записки. № 27 (1995). С. 152.
http://www.kinozapiski.ru/data/home/articles/attache/238-248.pdf
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:22 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Первороссияне (1967)
Последний шедевр революционного авангарда
Трудно припомнить другой фильм, просмотра которого я ждал бы с таким же нетерпением. Периодические поиски этой картины на просторах интернета оставались безрезультатными. Два-три чудом состоявшихся показа я успешно прошляпил. И вот, когда, казалось бы, всякая надежда уже потеряна… желанная лента, хоть и в далеко не совершенном качестве, но оказалась в сети. О чём идёт речь? Об одной из самых загадочных, многострадальных и неординарных советский картин. О ленте Евгения Шифферса «Первороссияне» 1967 г. Это фильм, в котором уникально всё: от обстоятельств создания, до истории почти сорокалетнего пребывания в забвении, от экспериментальной формы, до радикального содержания.
Знаете, бывают люди, которых непрестанно сопровождают неприятности. Так бывает и у фильмов, и «Первороссияне» — это как раз такой неудачливый фильм. Его сценарий, основывавшийся на поэме великой Ольги Берггольц «Первороссийск», казался неподъёмным любому, бравшемуся за него, в том числе и уважаемому советскому режиссёру Александру Иванову. Неожиданно выискавшийся театральный постановщик, смельчак, энтузиаст, вольнодумец и экспериментатор Евгений Шифферс, разработал настолько радикальную, ни на что не похожую концепцию фильма, что отпугнул часть съёмочной группы. Лишь «прикрытие» именем Иванова, оставшегося официальным режиссёром ленты, позволило довести работу до конца. В итоге, трудно создававшаяся картина удивила всех, и мало кем была принята. Для Шифферса же эта работа в кино так и осталась единственной.
Отчасти «Первороссияне» разделили судьбу ряда других лент, создание которых было приурочено к пятидесятилетию Октябрьской революции. Тогда планировалось встретить полувековой юбилей торжества власти рабочих и крестьян настоящим пиршеством из историко-революционных картин. Однако взгляд кинематографистов на революцию существенно отличался от взгляда чиновников. Результат столкновения позиций творцов и властей превзошёл все ожидания — 1967, 1968 годы стали рекордсменами по количеству запрещённых или ограниченных в прокате лент. Были сочтены крамольными, легли на полку и дошли до зрителя лишь в перестройку киноальманах «Начало неведомого века» Андрея Смирнова и Ларисы Шепитько, «Комиссар» Александра Аскольдова, «Интервенция» Геннадия Полоки. Со скрипом были выпущены в прокат шедевры, вроде «Седьмого спутника» Григория Аронова и Алексея Германа, «В огне брода нет» Глеба Панфилова. Одним словом, судьба каждой из этих лент сложилась непросто. Но даже в этом ряду «Первороссияне» стоят особняком. Если вышеназванные запрещённые картины ждали своего часа около двадцати лет, до второй половины 80-х, то «Первороссияне» пробыли в забвении в два раза больше. Лента, будучи ограниченной в прокате (32 копии — ничто для 240-милионной аудитории), очень быстро исчезла с экранов кинотеатров, копии плёнки были уничтожены, а единственный уцелевший госфильмофондовский 70-ти миллиметровый негатив по техническим причинам скоро стал не пригоден ни для просмотра, ни для копирования. Последнее, очевидно, явилось тем фактором, из-за которого картину не вернули зрителю в ходе перестроечной кампании по реабилитации запрещённых лент. Лишь спустя долгих двадцать лет развитие техники позволило перевести уцелевший негатив в цифру. Итого, фильм, созданный в 1967 г., дошёл до зрителя аж в 2009, спустя 42 года! Фантастика!
Что же представляет собой эта многострадальная, едва-едва не канувшая в лету картина? Что в ней такого неожиданного и необыкновенного? Во-первых, удивительна интерпретация трагичной, но, казалось бы, довольно стандартной историко-революционной легенды. Группа петроградских рабочих, похоронив павших в борьбе за Революцию товарищей, отправляется на Алтай строить коммуну землеробов. Местные казаки-староверы смотрят на объявившихся энтузиастов косо, и недвусмысленно намекают на то, что житья приезжим здесь не будет. Коммунары упорно трудятся, отступать и не думают, но вскоре повторяют печальную судьбу своих товарищей, погибая от рук злопыхателей.
История эта, разделённая на несколько глав, рассказывается в совершенно авангардной форме. Здесь чувствуется отдалённое влияние ранних лент Довженко, любимовской Таганки, живописи «сурового стиля», в первую очередь, работ Виктора Попкова. Но всего отчётливее, как ни странно, звучат «Тени забытых предков» Параджанова. Шифферс, как и Параджанов, создаёт возвышенную поэму, оду, мир которой абсолютно условен. Не удивительно, что оба художника предпочитали называть своё кино не иначе как «антикино». Так, Шифферс совершенно отрицает монтаж. При этом в его работе исключительное значение обретают композиция и цвет. Композицию он выстраивает, по чьему-то меткому выражению, так, словно «вколачивает … гвозди», уверенно и лаконично.
«Первороссияне» — это буйство цвета, такое, какое было, пожалуй, лишь у Эйзенштейна в знаменитой сцене пира во второй части «Ивана Грозного». Каждая сцена выдержана в своей цветовой гамме. Для достижения необходимого эффекта краской выкрашивались горы, поля, улицы, одежды, люди.
Удивительны и персонажи картины. Это, своего рода, возвышенные роботы, начисто лишенные каких-либо человеческих черт, и представляющие собой эдакие абсолютные воплощения тех или иных революционных идеалов. Среди исполнителей ролей фанатиков-коммунаров люди сплошь неординарные: Владимир Заманский, на роду которому, видно было написано сниматься в запрещаемых фильмах ("Проверка на дорогах» Германа, «Скорбное бесчувствие» Сокурова), Лариса Данилина, кино-карьера которой после фильма почти завершилась, Геннадий Нилов, памятный многим по роли физика в комедии «Три плюс два».
Крайне любопытна идейная составляющая фильма. Если обычно запрещённые ленты были подозрительны чересчур либеральным посылом, то здесь всё предельно леворадикально. Не зря о картине говорят, как о «манифесте революционного фанатизма» и «выплеске чистого красного безумия». Шифферс предельно бескомпромиссен в выражении коммунистической идеи, но, что самое важное, столь же предельно искренен. В этом плане работа Шифферса близка к лучшим работам мастеров революционного авангарда 20-х годов. Как и их картины, «Первороссиян» ни в коем случае нельзя назвать агиткой, потому как произведение это совершенно чисто и серьёзно, буйный пафос его держится на истовой вере. Здесь нет ни тени иронии или сомнения. Здесь торжествует глубочайшее убеждение, граничащее с религиозным умоисступлением. Одним, словом, сделан фильм необыкновенно сильно, и заставляет лишь изумиться тому, каким образом автору удалось на столь высоком уровне совместить поэзию и идеологию.
Неудивительно, что получившееся произведение оказалось настолько нестандартным, что, по слухам, не понравилось никому. Партийных идеологов в ленте отталкивала крайне авангардная форма. По этой же причине не мог одобрить фильма и широкий зритель. Интеллигенция, в основной массе своей, не могла примириться с леворадикальным фанатизмом произведения. А между тем, надо полагать что фильм, выйди он в свет и дойди до Европы, пришёлся бы очень по душе «новым левым». Уверен, Годар, в то же самое время снявший свою «Китаянку», был бы в восторге. Увы, пора для того чтобы оценить «Первороссиян» по достоинству пришла только сейчас. Будем же надеяться, что ленту ждёт достойный релиз.
История «Первороссиян» лишний раз подтверждает, что советское кино воистину является Атлантидой, хранящей несчётное количество неисследованных тайн и загадок. Как знать, быть может фильм Шифферса является лишь вершиной айсберга несправедливо забытых и уникальных творческих достижений, которые нам ещё только предстоит открыть.
Павел Орлов
Авторская оценка: 10 из 10
http://www.kinopoisk.ru/user/1142517/comment/1354490/
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:23 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Яков БУТОВСКИЙ «Первороссияне» (1966-2009)
В августе 1966 года главный инженер «Ленфильма» Иосиф Николаевич Александер предложил мне поехать в командировку на Кавказ в экспедицию фильма «Первороссияне». Я согласился, не задумываясь: никогда не был на Кавказе, звукооператор фильма Тигран Силаев—друг с институтских времен, оператор—Евгений Вениаминович Шапиро, с которым я успел подружиться уже на студии... Но все-таки спросил, почему посылают меня,—если из экспедиции шел брак, туда ездили руководители Отдела технического контроля. Александер сказал: «Вот и поговорите с Соней... »
Начальник ОТК Софья Аркадьевна Элькинд (для меня—Соня, но на «Вы») пояснила: Шапиро работал на «Крепостной актрисе[1] и прекрасно знает, что снимать на широкий формат нужно с учетом последующей выко-пировки на широкий экран[2]. Но он не всегда это делает из-за давления режиссера Жени Шифферса, ничего в кино не понимающего. Шифферс—это тоже проблема. Она поссорилась с ним еще во время кинопроб. А я с ним не сталкивался, поэтому мне будет проще.
Соня подробно рассказала о претензиях к экспедиционному материалу (рабочий позитив уже был отправлен в группу)—кроме «неучета выко-пировки» это нестыковка по цвету кадров, которые, вероятно, будут монтироваться подряд, плохой проработки фактуры камня, чего-то еще... Но ОТК ничего не забраковало, материал, в общем-то, не очень критичен, многое зависит от цветоустановки, которую делали наугад, не зная точного замысла режиссера и оператора. Так что у работников ОТК нет официального повода для поездки. Нужно лицо нейтральное (я был начальником научно-исследовательской лаборатории студии), которое разберется во всем там, на месте и предупредит возможный брак.
Соня дала мне режиссерский сценарий, я прочел его в самолете. Поразил он не столько необычным поэтическим и эпическим решением, сколько тем, что первой под ним стояла подпись режиссера фильма А.Г.Иванова—Гаврилыча, как его за глаза звали на студии. Он руководил 2-м Творческим объединением (2ТО). В последнее время там появились фильмы, «отличные» один от другого, и, главное, от требуемого начальством: «Долгая счастливая жизнь» Г.Ф.Шпаликова, «Помни, Каспар» Г.Г.Никулина, «Мальчик и девочка» Ю.А.Файта. Но в то же время 2ТО активно пополняло «лениниану», а сам Гаврилыч не так давно с размахом снял вполне соцреалистический сериал «Поднятая целина». А тут явно новаторские «Первороссияне»! Кстати, главным конфликтом они были схожи с шолоховской эпопеей: столкновение между приезжающими из города борцами за светлое будущее и местными, у которых «обобщают» землю...
О проблемах с операторами при запуске фильма в производство я слышал только краем уха. Подробности узнал уже по дороге в Теберду, где разместилась съемочная группа, от Тиграна Силаева—вместе с администратором он встретил меня в аэропорту Минеральных Вод.
Через 9 дней, в Ленинграде, я записал свои впечатления о поездке на Кавказ:
03.09.1966. Е.Л.Шифферс. «Первороссияне»?.
С 26.08. по 1.09. я был в командировке в Теберде, где работает в экспедиции съемочная группа «Первороссияне». Там я познакомился с Е.Л.Шифферсом.
Сначала история. Сценарий «Первороссиян» написан О.Берггольц по ее поэме. Возилась она с ним долго, и еще года два возился А.Г.Иванов, пытаясь из него что-то сделать, и, в конце концов, уже готов был от него отказаться, понимая, что получается повторение пройденного, что ничего нового он не может сделать с традиционно-реалистическим сценарием. Тут и появился Шиф-ферс, который предложил превратить все в кинотрагедию, в трагическую кинопоэму.
Шифферс пришел из театра. Учился у Товстоногова, поставил 5 спектаклей—каждый оказался событием. В театре им. Ленинского комсомола, куда он был отправлен после института, поставил к юбилею Шекспира «Ромео и Джульетту». Спектакль прошел всего 5 раз и был снят, а Шифферс обвинен в формализме и чуть ли не в фашизме. Из театра его выгнали. Долго он ходил без работы, поставил два спектакля в захудалых театрах (на Литейном и на Рубинштейна)[4]и как-то попал к Гаврилычу. Как это случилось, я не знаю, но, во всяком случае, он взялся сделать из Берггольцевского сценария вещь.
Делал он это не один, а со своим другом-художником (тоже театральным и тоже левым)—М.Щегловым. Прежде всего, они свели до минимума фабулу и диалог, оставив только отдельные ключевые эпизоды и реплики. Весь фильм разбили на главы и дали каждой главе свой цвет. Уже в сценарии (режиссерском) видно то значение, которое они придают музыке, ритму, стихам, введенным в фильм. Уже в сценарии намечены повторы композиций (сцена похорон жертв революции и сцена поджога пшеницы и др.).
В Теберде в первый же день на съемках я увидел удивительные вещи. Гаврилыч сидит в сторонке в тени зонта и пишет мелким почерком мемуары[5]. Командует Шифферс. Командует громко, грубо, но, если и орет на кого-либо, то справедливо. Работают все в каком-то едином ритме, который задает он сам. Работают все быстро и точно. Сам он работает безукоризненно точно.
Снималась сцена, когда местные староверы смотрят на пашущих коммунаров (обратная точка «пахотного поля»). В кадре 2 актрисы, 1 актер и 12 человек массовки. Они должны стоять по склону горы. Гора выкрашена в желтый цвет, камни-валуны перед ней—в желтый с золотистой подцветкой, земля на пологом склоне слева—черная. Все актеры и массовка в черных костюмах. Одна актриса—Ефимия—в красном. Но поразила меня не раскраска натуры, а то, как Шифферс абсолютно точно, почти без поправок компоновал кадр и мизансцену (кадры статичные, движение минимальное). Статистов он вколачивал буквально, как гвозди: «Вы сюда. Чуть левее. Стоп. Следующего...» Особенно удивительно все было потому, что он не мог заранее продумать всю расстановку и композицию: выбранная и подготовленная накануне точка съемки была перед самой съемкой заменена на почти противоположную. Но он настолько хорошо знает, что он хочет, что даже такая перемена не сказывается на темпе работы. В некоторые дни они давали по 150-200 полезных (!) метров, а однажды даже все 300.
В работе с актерами чувствовалась та же уверенность. Никаких колебаний, никаких «Попробуем так...» И требовательность. Точно продуманные, пластически яркие позы и задача актеру оправдать их игрой. Я невольно вспомнил эйзенштейновского «Ивана». Да и вообще вся обстановка какая-то эйзенштейновская—огромное внимание к композиции, к цвету, к пластике. Отсюда и роль художника. И при этом—статичная композиция, заранее предусмотренные режиссером точка съемки и ракурс камеры, что фактически сводит на нет роль оператора (учитывая, что это цветная картина и на натуре вопросы света имеют не очень большое значение).
Картину начинал Анатолий Михайлович Назаров. Человек он не очень умный и не очень культурный. Ремесло у него есть. Он считает себя реалистом, но по сути это не реализм, а, если можно так сказать, «фотографизм». Весь подготовительный период он спорил с Шифферсом и Щегловым, скрипя зубами, снял пробы так, как они хотели, и перед самой экспедицией сделал финт, чтобы подчинить их себе. Для этого он отказался от картины, справедливо считая, что из «мэтров» никто на нее не пойдет, чтобы не испортить с ним отношения и в порядке солидарности в борьбе с «этим шизофреником» (так зовут Шифферса на студии), а молодые не пойдут по первой причине, да и Гаврилыч молодого не возьмет. Но тут произошло непредвиденное: в этот же момент отказался от картины Е.Шапиро, который провел с Ольшвангером подготовительный период по «Его звали Роберт» и в последнюю минуту с ним поссорился. Шапиро сходу согласился идти на «Первороссиян», и Назаров остался с носом, так как был уверен, что, в конце концов, к нему придут с поклоном, и тогда он будет диктовать условия.
Как рассказал мне Шифферс, поначалу отношения у них с Шапиро были худые. Шапиро, оказавшись по сути дела «камермэном» (т.к. свет ставит второй оператор Костя Соловьев—и ставит, кстати, очень профессионально, а камеру ставит Шифферс), глухо сопротивлялся всему, но вынужден был подчиняться Шифферсу. Уйти с картины он не мог, так как это был бы третий уход подряд (до этого он отказался—в подготовительном периоде уже—от «Катерины Измайловой» и от «Роберта»), и, кроме того, надо было держать марку перед Назаровым и другими, которых Назаров настраивал против него.
Но при съемке одного кадра (большая панорама пахоты) он, по словам Шифферса, «сломался» (очень характерный для Шифферса оборот). Я понимаю так, что он (Шапиро) уловил, что нужно Шиф-ферсу и Щеглову, и уже смог сам предложить что-то, что они приняли. Дальше они работают дружно, и в разговоре со мной Евгений Вениаминович говорил о Шифферсе, как об очень талантливом человеке и прекрасном организаторе. «Конечно, у него есть черты бонапартизма», сказал Шапиро. Интересно, что в первый же день, невольно сравнивая Шифферса с Эйзенштейном и ища черты внешнего сходства, я подумал, что он все-таки больше похож не на Эйзенштейна, а на Наполеона.
Как всегда на «Ленфильме», группу выпихнули в экспедицию без всякой технической подготовки, которая, конечно, была очень нужна, учитывая специфику картины и полное отсутствие кинематографического опыта у Шифферса и Щеглова. Тут им не повезло из-за Назарова, который всячески сопротивлялся техническим пробам. Отсутствие подготовки очень сказывается на экспедиционном материале. Видимо Шифферс и Щеглов считали, что на экране будет все так, как они видят глазами. Поэтому они широко использовали дешевую клеевую краску, которая съела фактуру дерева, камня и т.д. Самое плохое то, что все это уже не переснимешь. Не учитывали они и выкопировку на широкий экран.
Вот эти-то технические огрехи и послужили поводом для моего разговора с Шифферсом; разговор продолжался больше двух часов и очень скоро перешел с проблем технических на проблемы творческие, одновременно мы перешли на «Женя» и «Яша» (но на «вы»).
Больше всего меня удивило то, что он сам считает работу не принципиальной для себя, а какой-то проходной. Он написал сценарий «из деревенской жизни» и уже сдал его на «Ленфильм». Надеется его поставить: «Конечно, фильм будет черно-белый».
О «Первороссиянах» он сказал: «Они еще не представляют, что это будет за фильм». Монтировать он собирается сам, причем совсем не по режиссерскому сценарию. Зашла (в связи с монтажом) речь о музыке. Я сказал, что удивлен приглашением Андрея Петрова. Он «шлягерник», а тут, по-моему, нужен композитор исконно русский, вологодский (я имел в виду Гаврилина). Женя сказал: «Просто он хороший друг Миши Щеглова. И, кроме того, хочет попробовать свои силы в этом жанре. А если у него ничего не получится, мы просто подложим Прокофьева и Баха»[6].
Я спросил Шифферса, любит ли он Эйзенштейна. «Я очень люблю Довженко»,—ответил Женя. Дальше выяснилось, что Эйзенштейна он совсем не знает, ничего не читал и, вроде бы, даже ничего не видел. «Но ведь то, что вы делаете,—это же гораздо ближе к Эйзенштейну, чем к Довженко».—«Может быть, но самый великий фильм, который я видел,—"Земля". В ней есть какой-то гениальный наив... А недавно я видел "Звенигору". Это потрясающе! Эти сны... Ведь все, что сделал сейчас Феллини, ни в какое сравнение не идет». В этой записи почти ничего не сказано о технических проблемах, из-за которых я оказался в Теберде. Да их и не было. Шапиро, естественно, хорошо знал об «учете выкопировки» и следил за этим; согласился, что два-три кадра, снятые в самом начале, критичны. Но с момента, когда он нашел общий язык с Шифферсом, с этим все в порядке. Нестыковки по цвету иногда делались специально—по замыслу Шифферса и эскизам Щеглова, большинство же—неточная цветоустановка при печати рабочего материала. После такого разговора мне, вроде бы, и не нужно было говорить с Шифферсом, но он был мне очень интересен, и как повод для разговора я использовал поручение главного инженера.
Потом в Ленинграде я не один раз встречался с Женей—на студии, пока шли павильонные съемки, иногда специально заходил к ним в павильон, иногда смотрел рабочий материал в ОТК вместе с двумя Женями (второй— Шапиро), в Доме кино или в гостеприимном доме его друзей Чумаков— сценаристки Майи и оператора Володи. При встречах Шифферс был приветлив, когда была возможность побеседовать, охотно это делал—мы говорили о недавно увиденных фильмах, но больше о тех, которые Женя собирался поставить. Первым должен был стать деревенский фильм. Я читал отдельные куски сценария, детали не помню, но сохранилось общее ощущение того, что деревенская тема ему ближе, что «Первороссияне»—это проба пера, проверка возможностей кино, а этим фильмом он скажет новое слово. Еще он говорил о своих взглядах на искусство, скорее даже на философию искусства, и, признаться, иногда мне было трудно следить за ходом его мысли... Был я и в числе провожающих, когда он окончательно уезжал в Москву. Близкой дружбы у нас не получилось. Вероятно, причина была во мне...
...Один день командировки я почти полностью провел с Тиграном. В Теберде шел дождь, снимать нельзя (мне повезло—назавтра после приезда я попал на съемку, единственную за все дни командировки), а Тиграну нужна была фонограмма шума горной реки. На своем тонвагене он отправился в Архызское ущелье на реку Зеленчук и взял меня с собой... (Позволю себе отвлечься—Кавказ при первом знакомстве мне не очень понравился. Я до этого много времени провел на Тянь-Шане, в том числе и на озере Иссык-Куль—сравнения с мощью и красотой «небесных гор» те-бердинские «зеленые пригорочки» абсолютно не выдерживали. А вот Архыз меня в какой-то степени с Кавказом примирил. Я даже удивился, почему Шифферс, Шапиро и Щеглов выбрали Теберду, а потом сообразил, что выбрали не они, а администрация съемочной группы—в Теберде была турбаза, что очень облегчило размещение и кормление людей.)
...Мы с Тиграном сидели на покрытом нежно-зеленой, мягкой травой берегу Зеленчука и размышляли—почему Александер послал меня в эту явно бессмысленную командировку? Решили, что ее спровоцировал Назаров, когда посмотрел первый материал, прибывший из экспедиции[7]. Александер явно тянул с решением вопроса о командировке кого-либо из ОТК для разбирательства на месте, но, очевидно, Назаров его «допек». В результате я поехал в Теберду, когда экспедиция практически завершалась.
Тигран хорошо знал Назарова (работал вместе с ним на печально-знаменитом «Залпе "Авроры"»[8]), мне тоже приходилось общаться с ним по разным поводам. Мы сошлись на том, что Анатолий Михайлович вовсе не был склочником, и тем более неожиданным казалось его поведение в этой истории. По-видимому, причина столь бурной реакции была в том, что продуманная «антишифферская» кампания рухнула по вине именно Жени Шапиро, его друга.
Они дружили со времен Кинотехникума, рядом работали в Цехе обработки пленки, проявляя негатив и печатая «Новый Вавилон». Оба были под наблюдением Москвина, Назаров даже работал «на равных» с ним на «Простых людях» и «Пирогове», Москвин заменил Шапиро, когда тот заболел во время кинопроб «Золушки». В тяжелые годы малокартинья Москвин устроил друзей на «Александра Попова», и оба получили Сталинские премии... Появление друга Жени на «Первороссиянах», Назаров, судя по всему, воспринял как предательство и даже не пытался учесть и ту ситуацию, в которой оказался тогда Шапиро, и то, что Шапиро был главным оператором 2ТО и просто по должности должен был спасать «юбилейный» фильм.
В октябре 1967 года я был на приемке «Первороссиян» дирекцией и худсоветом студии, и в моей тетради появилась такая запись: На днях посмотрел в окончательном виде «Первороссиян». В целом картина мне нравится, хотя многое оказалось ниже ожидаемого уровня. Вокруг картины споры. Некоторые (например, Чумаки) восторженно относившиеся к картине, пока видели материал, резко изменили свое отношение, когда увидели ее смонтированной. Козинцев, которого специально вызвали с дачи на худсовет, чтобы поддержать «новаторов», сказал после худсовета: «Не понимаю, зачем нужно было что-то поддерживать, ведь эта картина абсолютно "про их"». На меня материал производил огромное впечатление, и от готовой картины я ожидал большего, но, тем не менее, я не могу сказать, что она уж совсем не оправдала моих надежд. Безусловно, оправдал себя сам принцип статических, графических кадров, цветовое решение и пр. Слабее получились разговоры. Видимо, не найден необходимый интонационный оттенок (может быть, к тому, что нужно, в какой-то степени приблизился Краско). Многое просто технически недотянуто. Очень испортил картину новый конец, сделанный Шапиро (Иванов болен, Шифферс после худсовета[9] ушел со студии, так как отказался что-либо переделывать). Не без помощи, а, скорее всего, благодаря помощи Димы Молдавского и Тарсановой, Шапиро заменил заключительный кадр фильма—черный Ленин (Честноков) на красном фоне печально-вопросительно смотрит в глаза зрителям—на помпезное знамя коммуны перед памятником Ленину у Финляндского вокзала. Этот конец—кошмарный удар по картине. Монтажные сокращения, которые сделал Шапиро, также не пошли на пользу.
Не на высоте музыка Каретникова. Особенно, по-моему, слаб похоронный марш в начале картины, а он ведь в значительной степени задает тон всему фильму. Фильм с такой историей как «Первороссияне» не мог кончиться «просто так». Нужен был какой-нибудь заключительный трагикомический эффект. Был и он! После первых просмотров смонтированного фильма редакторы и дирекция потребовали таких поправок, что Иванов слег с инфарктом, Шифферс, как уже сказано, категорически отказался что-либо менять, и вынужден был уйти со студии. Наверно, впервые в истории кино монтажными поправками готового фильма занимался... оператор!
Шапиро долго сопротивлялся и поправкам, и, особенно, пересъемке финального кадра, но, в конце концов, вынужден был все это сделать. И снял в павильоне кадр со знаменем, которое развевалось с помощью ветродуя перед плохо покрашенной гипсовой копией памятника Ленину у Финляндского вокзала. Фоном всей этой, почти пародийной композиции стал изображающий небо кусок фанеры, покрытой синей клеевой краской...
***
Почти сразу после сдачи фильма я записал для журнала «Техника кино и телевидения» интервью с Шапиро об опыте съемки широкоформатных фильмов. В числе прочего он сказал: «Большие размеры экрана при точно найденных композиционных и цветовых решениях кадра открывают, с моей точки зрения, грандиозные возможности; обладая новым эстетическим качеством, они производят колоссальный психологический и эмоциональный эффект восприятия изображения»[10]. (Когда я перепечатывал сейчас эту записанную на магнитофон фразу, не очень-то похожую на устную речь, я как будто вновь услышал голос Евгения Вениаминовича, его кавказский акцент и, казалось бы, неприятную, но у него почему-то симпатичную манеру говорить длинными, «наукообразными» предложениями, да еще и не без патетики).
В 1967 году я видел фильм дважды (на худсовете и на Технической комиссии «Ленфильма») именно на большом экране. Проекция шла с еще новых и хорошо отрегулированных широкоформатных кинопроекторов, с фильмокопии шириной 70 мм—эталонной, напечатанной при участии Шапиро. «Колоссальный психологический и эмоциональный эффект восприятия изображения» был, как говорится, налицо. Фильм хорошо запомнился...
После более чем сорокалетнего перерыва я посмотрел «Перворосси-ян» на DVD, изготовленном в Госфильмофонде России для показа на кинофестивале «Белые Столбы». Смотрел на телевизоре с экраном 24 дюйма по диагонали; по нынешним временам это один из самых распространенных размеров. Смотрел и невольно сравнивал... Поначалу, в первой же «главе» возникло некоторое беспокойство: показалось, что «нестыковка кадров по цвету», которая беспокоила Соню Эль-кинд и которая в каких-то местах в фильме действительно есть, в этой видеокопии усилена. Но довольно скоро на кадрах, которые лучше запомнились, я убедился, что только показалось. Окончательно примирила меня с цветом глава «Пианино»—она уже при первом просмотре на широкоформатном экране произвела на меня очень большое впечатление, особенно по точно выбранному синевато-серому общему тону. Он хорошо запомнился, таким же был и на экране телевизора. И даже те, кто увидят фильм только таким образом, не смогут забыть крупный план настройщика (эту микророль блестяще сыграл художник фильма Михаил Савельевич Щеглов) и кадр синевато-серой заводской стены, в которой открывались ворота в прокатный цех, освещенный желто-красными отблесками раскаленного железа. Из проема ворот Петя Гремякин, сын главного героя, вынес в синевато-серый мир красно-желтое знамя коммуны... Оно еще раз мелькнуло в последнем кадре главы и быстро исчезло в тумане, уносимое набирающим скорость поездом...
После худсовета я записал: «В целом картина мне нравится». После просмотра на телеэкране я такое никогда бы не написал, ибо то, что цвет воспроизведен достаточно точно, фильм не спасает—в таком «узкоформатном» виде фильм 1967 года «Первороссияне» просто не существует, мы смотрим что-то другое...
Попробую объяснить это на примерах. Крупный план Феодосия (И.И.Краско) в сцене пахоты. На телеэкране, почти во всю его высоту, очень выразительное лицо на фоне нерезкой вертикальной скалы. Общий цвет ка-дра—грязновато-зеленый, похожий на цвет вытащенных из воды подсыхающих водорослей. Вы видите все сразу, нерезкие светлые и темные пятна скалы кажутся специально организованными, кадр долго стоит на экране и в них даже можно что-то высмотреть...
А теперь представьте себя перед огромным экраном, края которого вы видите не резко, боковым зрением, и, если захотите разглядеть некоторые пятна фона, вам надо будет перевести глаза или даже повернуть голову. Но вы не можете оторвать взгляд от лица—лица фанатика. Особенно важно то, что общий, в какой-то степени мертвенный тон лица оживлен смотрящими на вас исподлобья, но голубыми глазами и чуть розоватым оттенком губ и ушей. На телевизоре это можно увидеть, только подойдя к экрану почти вплотную[11].
Другой пример—сцена первой встречи коммунаров с Шураковым— Ю.А.Паничем. Длинный, снятый панорамой с высокой точки кадр проезд Шуракова вдоль реки и через нее... Камера все время держит фигурку всадника в центре кадра. Мы еще не знаем, кто этот всадник и зачем он едет к коммунарам. Но в этот проезд врезаны крупные планы коммунаров, прижатых то к одному, то к другому краю кадра. При огромном экране зритель невольно на каждый такой кадр поворачивает голову и вместе с напряженными взглядами героев эти повороты усиливают беспокойство.
Такому ощущению помогал и стереофонический звук, сопровождающий панораму. Работали все шесть каналов, зритель был погружен в нарушающую вечный покой гор, очень точно созданную Силаевым звуковую атмосферу. Музыка, сильный шум горной реки (временами он перекрывает музыку), всплеск от ударов ног коня по воде на мелководье... Все это сбалансировано с меняющимся, благодаря панораме, изображением и тоже создает ощущение угрозы.
По тому же принципу нарастающей угрозы снят и разговор Шурако-ва с коммунарами. Лицо его чуть вправо от центра кадра, небольшой сдвиг уравновешивается головой коня слева. Коммунары стоят плотной группой, занимающей всю ширину экрана и, чтобы увидеть реакцию каждого, нужно поворачивать голову. Врезанные в сцену разговора крупные планы коммунаров также скомпонованы не по центру. И только после того, как Шура-ков, посоветовав гостям убираться, сел на коня и уехал (это показано отраженно, движениями головы коня), появляется прямо по центру кадра крупный план Гремякина—В.П.Заманского. На вопрос: «Есть ли тут советская власть?»—он отвечает: «Нет, так будет».
Я описал эпизод таким, каким увидел и услышал его при просмотре на очень большом экране. Если смотреть фильм на плоском экране видеопроекции или телевизора, изображение воспринимается целиком, звук идет только от экрана. При этом пропадает прекрасно организованное создателями фильма в широкоформатном варианте нарастание беспокойства, связанное с дополнительной, можно даже сказать—физиологической, реакцией зрителя (повороты головы, мощное, временами давящее звуковое напряжение)[12].
Позволю себе сравнение не по уровню художественного мастерства, а по впечатлению, которое изображение производит. Для меня просмотр «Первороссиян» на DVD и просмотр их на широкоформатном экране отличаются примерно так же, как репродукция «Страшного суда» Микелан-джело в формате А4 отличается от великой фрески, когда смотришь на нее в Сикстинской капелле...
Госфильмофонд сделал очень полезное дело—практически все участники кинофестиваля впервые (пускай только в качестве репродукции) увидели этот, безусловно, интересный фильм с необычной историей. И, наверно, не вина Госфильмофонда, а его беда, что новый шаг в истории «Перво-россиян» тоже оказался в чем-то ущербным. Невезучий фильм...
...Не хочется останавливаться на грустной ноте. Мы живем в век технических прорывов, полным ходом идет создание систем проекции цифрового изображения на огромные экраны[13]. И, может быть, скоро мы увидим «Первороссиян» в том виде, в каком их задумали и осуществили создатели фильма. Да и не только «Первороссиян»—широкоформатных фильмов было выпущено достаточно много. Можно по-разному относиться к «Войне и миру» С.Ф.Бондарчука и А.А.Петрицкого, но многим эпизодам фильма нельзя отказать в изобразительной мощи, которую по-настоящему чувствуешь только в широком формате. А единственный в своем роде эксперимент—на удивление сильный по изображению черно-белый широкоформатный фильм С.И.Самсонова и В.В.Монахова «Оптимистическая трагедия»! Или «Табор уходит в небо» Э.В.Лотяну и С.А.Вронского...
1. Первый широкоформатный фильм, поставленный на «Ленфильме» (реж. Р.И.Тихомиров, 1963).
2. Широкоформатные (ш/ф) фильмы (ширина негативной и позитивной пленки 70-мм) показывали в ограниченном числе кинотеатров, оборудованных ш/ф проекторами, системой 6-ти канальной стереофонии и очень большим экраном в форме дуги. Основная масса кинотеатров была тогда рассчитана на показ широкоэкранных (ш/э) фильмов; для этого производили выкопировку с 70-мм ш/ф негатива на 35-мм пленку с ш/э изображением. При этом кадр немного подрезался по высоте (соотношение сторон экрана 1:2,2 у ш/ф и 1:2,35 у ш/э). Для того чтобы оператор во время съемки на 70-мм пленку мог учесть будущую выкопировку, в кадровом окне ш/ф кинокамеры были сделаны две тонкие риски, показывающие высоту ш/э кадра. Композицию кадра оператор должен был строить так, чтобы она удовлетворяла обоим форматам, и если сюжетно-важное изображение, скажем, лицо, занимало всю высоту ш/ф кадра, то в ш/э кадре оно оказывалось подрезанным сверху и снизу.
3. Заголовок записи на полях тетради. Все примечания к записям из тетради написаны при их публикации.
4. На Литейном проспекте находился Областной драматический театр (сейчас Театр на Литейном), на улице Рубинштейна—Малый драматический театр (сейчас Малый драматический театр—Театр Европы). В записи 1966 г. театральная деятельность Шифферса изложена неполно и даже неточно—он поставил в театрах Ленинграда 6 спектаклей. К сожалению, я не смог попасть на имевшую большой резонанс студенческую работу Шифферса 1963 года—«Антигону» Ж.Ануя: единственный открытый спектакль шел на сцене Дома актера. Друзья, которые видели «Антигону», были потрясены и постановкой Шифферса, и игрой Ольги Волковой и Ивана Краско, и вооруженными немецкими автоматами стражниками. Возможно, обвинение в «фашизме» связано именно с этим. Из спектаклей Шифферса я видел только «Сотворившую чудо» Э.Гибсона в ТЮЗе с великолепным дуэтом Ольги Волковой и Антонины Шурановой.
5. О том, что Иванов пишет во время съемок именно мемуары, сказал мне Т.Г.Силаев, когда мы еще ехали в Теберду. Как выяснилось много позже из разысканий П.А.Багрова, Иванов писал не мемуары, а дневник работы над фильмом.
6. В конце концов, музыку написал Н.Н.Каретников.
7. Наше предположение подтвердилось. А.Г.Иванов писал жене из Теберды 30 июля 1966г.: «Материал кого-то порадовал, а кое-кого вверг в истерический испуг: формализм, загиб, а картина к 50-летию, ах, ох! Мутит всех, оказывается, Толя Назаров всюду нашептывает, все хает. Не понимаю человека: сам удрал с картины, испугался и почему-то старается обхамить Женьку Шапиро, видимо, за то, что тот принял наше предложение. Вот уж не ожидал. Ну да черт с ним».
Пользуюсь случаем поблагодарить П.А.Багрова, который дал мне возможность ознакомиться с касающимися «Первороссиян» дневниками и письмами А.Г.Иванова еще до их публикации.
8. Историко-революционный фильм мосфильмовского режиссера Ю.М.Вышинского по сценарию, написанному им с Б.А.Лавреневым (Вышинский отметился до этого в ленинской теме короткометражкой «Аппассионата») почему-то запустили на «Ленфильме», в 2ТО, хотя оно одновременно вело работу еще по трем «ленинским» фильмам («На одной планете» И.С.Ольшвангера, «Первая Бастилия» М.И.Ершова, «Первый посетитель» Л.А.Квинихидзе). Из фильмов этой «квадриги», выпущенных на экраны в 1966 г., ни один не стал достижением «киноленинианы». «Залп "Авроры"»—цветной ш/ф фильм, снятый с большим размахом, оказался самым худшим из них и стал для ленфильмовцев «притчей во языцех».
9. Здесь имеется в виду первый, предварительный худсовет, возможно, даже худсовет 2ТО, на котором фильм показывали с двух пленок, а не тот окончательный, октябрьский, о котором я писал.
10. Ш а п и р о Е.В. О съемке широкоформатных кинофильмов / Вел беседу Я.Л.Бутовский // Техника кино и телевидения. 1968. № 1. С. 38.
11. В фильме есть еще один практически однотонный портрет: Лена Гремякина— Л.М.Данилина. Надо признать, что этот портрет несколько выбивается из серии крупноплановых портретов коммунаров. Он снят на гладком, очень светлом фоне, что неожиданно делает его похожим на известные портреты Б.И.Пророкова конца 1940-х—1950-х гг., посвященные борьбе за мир и разоблачению американского империализма.
12. Хочу обратить внимание читателя на опубликованные в «КЗ» № 89/90 материалы, посвященные теоретическому наследию американского кинематографиста сербского происхождения Славко Воркапича (Slavko Vorkapich, 1894-1976), в частности, на его рассуждения о «висцеральных реакциях»—физиологических реакциях, вызываемых изменением эмоционального состояния человека (см. С. 276, 283). Такие реакции ярче проявляются при больших размерах экрана («Синерама», ш/ф кино, система «Аймекс»).
13. Работы по цифровому кино с очень большими экранами, по качеству изображения не уступающему ш/ф кино, идут сразу в двух конкурирующих направлениях: 1) создаются системы видеопроекции с источниками света такой мощности, которые позволят в комфортабельных для глаз зрителей условиях приблизить к кинематографическому качество цифрового изображения на очень большом экране; 2) разрабатываются огромные экраны (по типу плоских телевизоров и компьютерных мониторов) со сверхминиатюрными размерами святящихся тремя цветами точек. Успехи последних лет в электронной технике, быстрое развитие нанотехнологии позволяют надеяться, что решения будут найдены довольно скоро.
© 2009, "Киноведческие записки" N92
http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/1097/
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:24 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Лариса ДАНИЛИНА: «Встреча с Шифферсом была для меня даром судьбы»
интервьюер Тамара СЕРГЕЕВА
—Фильм «Первороссияне» много лет пролежал в хранилищах Госфильмофонда, недоступный для просмотра. Интересно, когда вы его видели последний раз?
Сорок один год назад, когда его сдавали в Госкино. Кроме режиссера Евгения Шифферса, который жил в это время в Москве, из нашей группы на сдаче присутствовала только я. Помню, в большом зале в абсолютной тишине сидело десятка два человек. Ощущение было, что все окутано какой-то сумрачной тайной. Никаких разговоров, строгое соблюдение всех формальностей...
В 1991 году нам с Евгением Львовичем еще раз удалось увидеть картину, когда Шифферс готовился к съемкам фильма-медитации «Путь царей»—об убийстве царской семьи[1]. К тому моменту в «Первороссиянах» уже не было главы «Муж и жена», да и сама копия была очень плохой. И все же Лена Машкова, второй режиссер «Пути царей», из зала любительской видеокамерой сняла «Первороссиян». А вскоре копия картины куда-то делась. Мы удивительная страна и удивительный народ. Можем созидать, а потом безжалостно разрушить созданное. Не задумываясь, уничтожаем свои корни.
Сам для себя Шифферс считал этот фильм цветным, только цвета было всего два—черный и белый.
Когда в 2004 году на канале «Культура» готовилась передача «Звездные годы "Ленфильма"», посвященная Александру Гавриловичу Иванову, о нашем фильме вспомнили, хотели показать фрагменты из него, но удалось найти только первую часть с обрезанными титрами. Ни одной позитивной копии больше нигде не было! Ужасного качества кассета—вот и все, что у нас осталось на память.
Дальше вся надежда была только на Госфильмофонд, на тех энтузиастов, которые в нем работают. Я стала звонить Владимиру Юрьевичу Дмитриеву. Огромная ему благодарность—он оказался человеком творческим, заинтересованным в сохранности нашей культуры. И в результате Госфиль-мофонд вернул к жизни наш фильм!
-Лариса Михайловна, теперь, когда «Первороссиян» можно увидеть (пусть и на кассете), о них, наверняка, напишут еще немало, но все равно, самое интересное, на мой взгляд,—это свидетельства очевидцев, тех, кто принимал участие в съемках. Как, например, вы попали на них?
Второй режиссер Владимир Синило выбрал меня по актерской картотеке. Я с радостью помчалась в Ленинград на пробы, потому что хотела вырваться из Театра киноактера хоть на три дня, так меня в том году достали совершенно бессмысленные репетиции «Негритянского квартала» Сименона.
На роль Любы Гремякиной кроме меня пробовалась Людмила Чурсина. Но вообще-то Шифферс, который на «Первороссиян» пришел с условием, что приведет своего художника и своих актеров, четко представлял, что ему нужно, и поэтому на все остальные роли пробовалось по одному человеку. Потом для худсовета из проб Евгений Львович сделал маленький ролик-фильм.
Когда я впервые вошла в репетиционную комнату, то испытала настоящий шок—казалось, что в ней носилась шаровая молния! Шифферс все время двигался, все время что-то говорил. Сгусток энергии! От него нельзя было оторвать глаз. Я человек, которому всегда хотелось, чтобы режиссер подробно объяснял, что ему нужно от актера, но когда я увидела Шиффер-са, то поняла, что к нему у меня нет и не будет никаких вопросов. Я просто подчинюсь его воле.
Но после проб мне стало казаться, что я ничего не могу, что у меня не получается и никогда не получится то, чего ждет режиссер.
-Тем не менее, вы стали готовиться к съемкам...
Первое, что я сделала, спросила: «Мне, наверное, нужно прочитать "Первороссийск"?» Шифферс сказал: «Ничего не надо читать. Наш фильм к нему никакого отношения не имеет!»
А на самих съемках у меня появилось ощущение, что я вообще не работаю, что кто-то все делает за меня, ведет меня... Мне была непонятна работа Шифферса с актером. Как он добивался нужного результата? На репетициях Шифферс ничего не объяснял, только показывал. Считал, что актер может сделать все, но это «все» зависит от режиссера, если у актера что-то не получилось—виноват режиссер.
Вот, например, снимается одним длинным кадром глава «Воскресенье», пахота. Общий план, актер (я) далеко. Шифферс каждый мой шаг сопровождает своим комментарием. Мы были единым целым! Я настолько «чувствовала» его, что когда он кричал: «Ну, падай!»—у меня подкашивались ноги в ту же секунду, я падала мгновенно. Он создавал такую атмосферу, что ты, казалось, жил его чувствами, его волей. Сила его воздействия на актера была невероятной.
—А Александр Гаврилович работал с актерами?
Иванов сидел рядом с камерой на стульчике и писал мемуары. Он вообще ни во что не вмешивался и никогда не отменял решений Шифферса (за что ему огромная благодарность), но на площадке присутствовал всегда. Я помню, как он один раз посмотрел в кадр. Это было, когда снимался общий дальний план станицы через мой крупный план. Шифферс позвал Иванова посмотреть, что там происходит. «Да мне все понятно, работайте»,—ответил Иванов, но все-таки подошел и посмотрел.
Так что фактически картину снимал Шифферс. Александр Гаврилович своей кавалерийской грудью только «закрывал» ее от нападок. Дал возможность ей быть снятой. В титрах стояло: «режиссер-постановщик Александр Иванов», а в следующем титре, также во весь экран: «режиссер Шифферс». Все знали, что над картиной работал Шифферс, но официально считалось, что это картина Александра Гавриловича. Так она по всем документам и проходит.
—И они с Шифферсом не конфликтовали?
Никогда! Он с самого начала все отдал в руки Шифферса. Александр Гаврилович был хорошим человеком. У него было удивительное чутье на талант. И он этому таланту не мешал.
Кстати, вы знаете, что Шифферс полностью переписал сценарий? Первоначально в нем было 240 страниц! Тогда Александру Гавриловичу было 70 лет, он был немолод, но еще крепок, и все же боялся приступить к этой работе, понимая всю ее трудность. Выходило, что надо снимать сериал, и было ясно, что того пафоса, который есть в поэме, в фильме уже не будет. Тогда-то Марк Рысс, который умел находить людей, привел на студию Евгения Шифферса.
В расплату за «помощь» Иванову Шифферсу обещали собственную постановку. В результате постановку так и не дали, но гонорар за сценарий «Дочки-матери» (кстати, в этом фильме Евгений Львович собирался снимать меня) все-таки выписали—Шифферс на него купил шубы первой жене, Нурии, и дочке Леночке, а себе—пишущую машинку, она до сих пор стоит у меня.
Евгению Львовичу выдали этот неподъемный том и отправили в Комарово—дорабатывать. За месяц он полностью переписал его, уложившись примерно в 100 страниц (все равно не мало!). После этого поехали снимать в Теберду.
Съемки сопровождались страшным давлением со стороны руководства. Оно началось еще на стадии кинопроб. Первый оператор фильма, Назаров, который до этого работал у Александра Гавриловича на нескольких фильмах, снял пробы, но дальше просто не смог выдержать натиска Шиф-ферса, считая, что тот слишком много командует, и ушел с фильма. Предложили снимать Евгению Шапиро, и он неожиданно согласился, что, как выяснилось позже, было к лучшему. Правда, вначале Шапиро тоже многое не нравилось, в частности то, что Шифферс, который считал, что кино должно быть цветное, с локальным цветом, решил все красить—не только декорации, но даже натуру.
Ситуация в группе сложилась напряженная. Разрядилась она только после съемки главы «Воскресенье». Съемка длилась два или три часа, снималось все единым кадром—220 метров без перерыва (только потом при монтаже были вставлены врезки). Она произвела огромное впечатление на людей, и после нее лед в отношениях оказался сломан. Все, рабочие, операторы, абсолютно все покорились воле Шифферса. А Шапиро даже встал на колени и сказал прочувствованные слова.
И все же Шифферс потом не раз говорил, что если бы со стороны Шапиро с самого начала не было сопротивления (от оператора очень многое зависело в нашем фильме!), некоторые эпизоды получились бы гораздо лучше, например, та же глава «Муж и жена». Да и вся картина в целом была бы более совершенной.
А вот с кем у Шифферса было абсолютное взаимопонимание, так это с художником Мишей Щегловым. Правда, жаль, что Щеглов, когда стал работать с Полокой, воспроизвел (точь-в-точь!) в «Интервенции» композицию и цветовое решение многих кадров «Первороссиян», придуманных Шиф-ферсом...
—Долго вы пробыли в Теберде?
Всего полтора месяца вместо трех. Я не знаю никого, кто мог бы так быстро снимать. Кстати, в группе высказывали недовольство, что натура так быстро снята, и не удастся как следует отдохнуть за суточные на юге вместе с семьями. Один из возмущенных рабочих, напившись, даже бегал за Шифферсом с ножом. Еще бы—вместо долгой южной экспедиции Шифферс организовал незапланированную экспедицию в Вильнюс. Там был большой павильон, который можно было перекрашивать. И мы один день работали—три отдыхали, потому что материал отправлялся в Ленинград, где его проявляли, потом присылали к нам, мы смотрели—все ли в порядке. Если да, то перекрашивали павильон в другой цвет и снимали следующий эпизод.
—А как отнесся Евгений Львович к тому, что удалось снять? Он был доволен результатом? Сумел ли воплотить свой замысел?
Он никогда не «озвучивал» свои задумки. У него все было интуитивно. Про него говорили: «Ну, он театральный режиссер». Но что значит «театральный режиссер»? Его любимый режиссер—Дрейер. «Страсти Жанны д'Арк»—не театральный фильм? Вопрос. А Шифферс говорил: «Это самый замечательный фильм из всего, что я видел».
—Это объясняет «Первороссиян».
Шифферс был человеком интуиции и при этом имел аналитический немецкий ум (по линии отца у него в роду были немцы и французы, а по линии матери—армяне).
Ко всем он относился как к равным, как к самому себе, мог часами беседовать с простым рабочим о серьезных проблемах. И всегда делал так, как считал нужным, как у него получалось, никому не подчиняясь. Говорил: «Художник, режиссер, определяется не тем, что он может себе позволить, а тем, чего он себе заведомо не позволит». И всегда все тащил на себе, считал, если он участвует в этой работе, то за все отвечает стопроцентно.
Себя совершенно не жалел. Уставал на съемках так, что просто падал. У него было воспаление паутинной оболочки мозга. Еще когда работал в театре, перенес такой приступ, что оказался в нейрохирургическом отделении, там предложили делать операцию. Позвонили из обкома, интересуясь его состоянием, врачи честно сказали, что операция опасная и после нее Шифферс может стать нетрудоспособным. «Но есть шансы, что все будет в порядке?»—«Маленькие».—«Делайте, он нам нужен здоровым». Это «делайте», скорее всего, было провокационным, кому-то очень хотелось вывести его из строя.
Как-то Шифферса вызвали в обком, он вошел в комнату, увидел у чиновника на столе кучу газет и искренне удивился: «И это все вы читаете?»— «Да, конечно, я читаю, потому что должен знать, как жить сегодня». Шифферс же газет до перестройки вообще не читал. Но, не имея ни грамма славянской крови, он болел душой за Россию, страдал из-за того, что здесь происходит. Когда начались отъезды наших друзей за границу, мы тоже могли бы уехать с ними, они нас звали с собой, а Женя сказал: «Я здесь никому не нужен, а там тем более. Там от меня будут ждать, что я стану поносить эту землю, а я этого делать никогда не буду. Я здесь родился, Господь Бог меня послал сюда, и здесь я должен умереть».
Тогда ведь из-за «Первороссиян» начальство Госкино не получило ожидаемых наград к 50-летию Октября... А в обкоме партии Ленинграда говорили, что этот молодой анархист, выгнанный из театра, спрятался за спину А.Г.Иванова и снова что-то скандальное натворил. Александр Гаврилович к тому времени не имел уже сил и возможностей защищать картину. Он заболел. Защитников практически не осталось. Партийные власти и Госкино требовали переделок. Но ведь в этой ленте что-то переделать было просто невозможно! Шифферс отказался от перемонтажа и уехал в Москву. Чтобы «спасти» картину, Евгений Шапиро согласился на некоторые поправки—что-то доснял, вырезал один мой план, заменив его планом другого персонажа.
Честно скажу—нам было страшно. Для Евгения Львовича все пути оказались перекрыты. Представляете, человек с таким темпераментом вдруг оказался лишенным возможности работать? А мог еще лишиться и свободы. В Москве я все время боялась, что все кончится лагерем, Шифферс ведь говорил то, что думал, везде и всем. Я предупреждала: «Женя, а вдруг телефоны прослушиваются?»—«Детка, пусть они все это слышат от меня, а не от тех, кто будет на меня доносить».
—Неужели так и не удалось найти ничего хотя бы в театре?
Были попытки работы у Ефремова, Евгений Львович переделывал одну из пьес, кажется, трилогии «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики» и даже играл небольшую роль. Ефремов предложил ему собственную постановку, Шифферс начал репетировать, но тут Олег Николаевич вызвал его и сказал: «Режиссером-постановщиком буду написан я, иначе спектакль закроют». Шифферс отказался. Потом начал делать «Мольера» у Любимова, ездил к нему, они подолгу разговаривали. Тоже не сложилось, как и в театре им. Вл.Маяковского, для которого он написал инсценировку «Подростка» Достоевского и пьесу «Сократ». В телевизионном объединении на «Мосфильме» ему предложили снять телефильм. Он взял художником Сережу Бархина, выбрали натуру, сформировали группу. Сюжет был интересным—человек из белого превращается в негра и на себе испытывает, каково это жить черным. Все уже было готово для съемок, но на студии решили собрать еще один худсовет и пригласили на него Шифферса. А его именно на этот час наш друг, писатель Владимир Максимов, позвал крестить своего племянника. Шифферс—крестный отец. Как вы думаете, что он выбрал—худсовет или крестины племянника Максимова? Он поехал крестить племянника! И фильм закрыли.
Потом в Вильнюсе ему предложили написать сценарий по книге врача-писателя Юлия Крелина. Написал, отправил. Там прочитали, пришли в ужас и стали требовать вернуть аванс, который уже был к тому времени потрачен. По рекомендации сценаристки Сони Давыдовой, жены Николая Каретникова, Евгений Львович написал сценарий для Экспериментального объединения на «Мосфильме». Та же история—сценарий прочитали и отказались с ним работать!
Единственное, что Шифферс в те годы сумел сделать—поставил спектакль «Прежде, чем пропоет петух» в Каунасе. Потрясающий. Шифферс получил удовлетворение от этой работы. Актеры были замечательные, играли спектакль с восторгом. Зрители смотрели, затаив дыхание. Но именно это-то и не понравилось чиновникам... Это была последняя театральная работа Шифферса.
Работы не стало вообще. Все говорили ему: «Надо что-то придумать». Но так и не придумывали. На лето Шифферс с дочкой, Машей, уезжал на Украину, где мы купили домик. Тайно писал для православного журнала, в котором работал его знакомый—дьякон. Но как только стало известно, что это «тот самый Шифферс», и там перестали брать его статьи. И он стал писать «в стол»: эссе, роман «Смертию смерть поправ», религиозно-философские труды. Недавно мы издали его трехтомник: два тома—произведения Евгения Львовича. Третий—комментарии к ним, подготовленные Владимиром Рокитянским. Сейчас готовим к печати большую его работу—семейный альбом «Преодоление Гуттенберга»—такие большие листы, на которых он с маленькой Машей составлял коллажи из собственных текстов, фотографий и Машиных рисунков. Хочу сказать, что для него семья имела большое значение (кстати, эталоном семьи была царская семья)—вопросы семьи, дома, рода волновали его всю жизнь. На эту тему он не раз читал лекции в театре Погребничко «ОКОЛО». Отдушиной стали для него и беседы с философами Юрием Громыко и Олегом Генисаретским.
При этом Шифферс все время читал религиозную литературу. Погружался в нее все больше и больше и понял, что ему не нужно все, чем он стремился заниматься раньше, хотя сначала он, человек с таким потенциалом, хотел работать, с горечью говорил: «Я готов служить, но я им не нужен.»
Да потому что чужой! Товстоногов как-то сказал: «Если услышите, что на Васильевском острове восстание, знайте, что его возглавил Шифферс». Хотя на самом деле Шифферс был абсолютно не уличным человеком, считал, что на улицу выходить толпой нельзя, потому что толпа не имеет лица. Нужно жить домом, воспитывать детей настоящими гражданами своего отечества. Он был государственным человеком. Не нужный государству государственный человек!
Я не знаю людей, которые бы соответствовали Шифферсу, включая себя. Он был очень терпелив к людям, несмотря на всю свою горячность. А его или любили, или ненавидели. Только так. Или враги, или друзья. Он был невероятно темпераментен, его захлестывали эмоции, но кричал он только в процессе работы, увлекаясь. А в обычной жизни я помню только его крик перед самым уходом. Даже не крик, а какой-то тонкий, заоблачный звук. Я не могла этого долго выносить, сказала: «Женя, я больше этого не выдерживаю». Он мне тихо ответил: «Детка, я кричу, но когда я умру, ты увидишь—я кроткий человек». Да, в душе он был кротким.
Он умер у нас с Машей на руках, незаметно затих, я думала, что он заснул. Перед уходом я его умоляла: «Женя, сделай что-нибудь, помоги себе» (он же был энергетически сильным, руками мог лечить), но он сказал: «Я больше не могу». Все. Энергия ушла. На этом пути его кто-то встретил, его лицо озарилось такой божественной улыбкой, стало таким мягким. Знаете, он всегда говорил: «Когда я буду умирать—не мешай мне». Вопрос смерти для него был очень важным. Он всю жизнь, как и положено верующему православному человеку, готовил себя к этому часу, говорил: «Главное в жизни человека—придти к смерти с чистой душой. Родившись, наша задача—пройти этот путь правильно». И больше всего беспокоился о том, что мы можем испугаться. Хотел, чтобы это произошло дома (так, слава Богу, и случилось).
—А как сложилась ваша судьба после «Первороссиян»?
Я пробовалась у Жалакявичуса на роль в фильме «Это сладкое слово—свобода!», чувствовалось, что он хочет меня снимать, Маша была еще грудная, но мне обещали няню на время съемок в экспедиции. Шифферс ревновал, я видела, как он напряжен. После одной из проб он мне сказал: «Ты собираешься сниматься, а что будет с Машей?»—«Мне дадут замечательную няню, не будет никаких проблем».—«А я?» И я поняла, что если поеду сниматься, то потеряю Шифферса. Его слова не шли у меня из головы. На следующей пробе я на площадке вдруг громко сказала: «Боже, зачем я здесь?»—и Жалакявичус, побледнев, распорядился: «Отвезите ее домой».
—И вы не пожалели?
Нет! Никакого сожаления нет, что меня где-то не утвердили, что я мало снималась. Было несколько ролей в сказках у Бориса Рыцарева, были какие-то эпизоды, в том числе и в фильме «Москва слезам не верит» (помните, я там была девицей, пришедшей записываться в клуб знакомств?). Но такой роли, как в «Первороссиянах» у меня больше не было. Между прочим, еще на съемках Иванов сказал мне: «Тебе будет трудно после этого фильма сниматься. Может, даже вообще не придется».
—Напророчил.
Но это правда. Мне было сложно с другими режиссерами. И все-таки актерская судьба у меня сложилась счастливо—я начала работать в дубляже и пользовалась успехом в этом плане. Но главное, я поняла, что стала актрисой только для того, чтобы встретиться с Шифферсом. Это было даром судьбы.
1. «Путь царей». 1991 г., к/ст. «Ленфильм», ч/б. Реж-пост. Евгений Шифферс; опер.-пост. Алексей Найденов; композ. Авет Тертерян; худ.-пост. Александр Орлов, Ирина Чередникова. В ролях: Мария Шифферс, Евгений Шифферс. В фильме задействованы куклы.
© 2009, "Киноведческие записки" N92
http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/1098/
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:24 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Юлиан ПАНИЧ
ГОРЕСТНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
К осени 1966-го тридцатидвухлетний выпускник режиссерского факультета ленинградского театрального института, а ныне безработный Евгений Шифферс имел за плечами шесть спектаклей, из которых на сцене оставались жить два. Первый, поставленный им три года назад еще студентом вленинградском ТЮЗе по пьесе «Сотворившая чудо» Гибсона с Ольгой Волковой и Антониной Шурановой и брехтовский «Что тот солдат, что этот», поставленный в ленинградском Малом драматическом театре. У четырех остальных была так называемая «трудная судьба». Их просто уже не было.
На папке личного дела Евгения Шифферса (читай: «и на его судьбе») заведующий отделом культуры ленинградского обкома партии товарищ Александров поставил крест. Случилось это осенью 1964-го после премьеры «Кандидата партии»—правоверной пьесы Александра Крона, которую поставил Евгений Шифферс в Театре драмы и комедии на Литейном. Этот вполне «проходимый» спектакль, выверенный и ладно сработанный, пришелся ко двору. Товарищ Александров после «отсмотра» остался доволен и прошел за кулисы—лично поздравить создателей. «Ну, Шифферс, поздравляю,—сказал, дружески улыбаясь, товарищ Александров и протянул режиссеру руку,—теперь будем сотрудничать?»—«В чем?» Шифферс побелел: «В чем мы с вами можем сотрудничать, товарищ Александров?!» Он закинул голову, выставил вперед свой мощный подбородок и заложил за спину обе руки: «В че-ем?!»
Меня вызвали в Смольный к инструктору отдела культуры Елене Алексеевой. Алексеева была мила, предложила чай. И еще предложила ознакомиться с этой самой александровской папкой. Я читал то, что писали о Шифферсе руководители ленинградского Театра имени Ленинского комсомола и Театра драмы и комедии на Литейном. В Театре имени Ленинского комсомола спектакль «Ромео и Джульетта» был снят с репертуара после двух разгромных рецензий в центральной прессе и последовавшего за этим конфликта руководства с режиссером и с актерами—участниками спектакля. Конфликт закончился уходом из театра вслед за Шифферсом целой группы актеров, сыгравших в его опальной постановке. В папку были подшиты те самые, опубликованные в один день в «Комсомольской правде» и в «Советской культуре» рецензии на «Ромео и Джульетту», где режиссера Шифферса обвиняли во всех смертных грехах, вплоть до «проповеди идей немецкого мистика и реакционера Гартмана, которого В.И.Ленин назвал истинным немецким черносотенцем».
А руководители театра на Литейном жаловались на режиссера Шифферса, пришедшего в театр с группой актеров и поставившего там спектакли «Маклена Грасса» и «Кандидат партии», имевшие успех, но снятые с репертуара после демонстративного ухода из театра все того же Шифферса и все той же группы актеров. Были и «внутренние рецензии», написанные в одном экземпляре для отдела культуры обкома партии, как тогда говорили—«рецензии типа доноса». Среди них—характеристика на Евгения Шифферса, подписанная профессором ленинградского театрального института Георгием Александровичем Товстоноговым, любимым педагогом Шифферса. Товстоногов писал, что Шифферс высоко одарен и глубоко образован, что он способен воплотить на сцене любую идею, правда, вскользь замечал Товстоногов, он не ручается за те идеи, которые захочет исповедовать его ученик…
Елена Алексеева, показав мне это досье, сказала, что люди—всего лишь люди, не более того, но дыма без огня не бывает, из чего я должен был понять, что стукачей и доносчиков она не приветствует, но и объект жалоб—Шифферс—«не сахар». После чего Алексеева доверительным тоном попросила меня, как друга режиссера и его ассистента почти во всех вышеозначенных спектаклях, помочь обкому и повлиять на «такого талантливого и такого несчастного Женю». «Шифферс очень болен, мы знаем, что это последствия ранения в голову, полученного им в Венгрии в 1956 году. Поскольку Женя был офицером и выполнял там свой воинский долг, мы в обкоме подняли на ноги всю городскую военную медицину и договорились, чтобы Шифферс попал в руки самых опытных специалистов—психиатров и хирургов Военно-медицинской академии. Вы должны уговорить его пройти курс лечения у специалистов».
И, понизив голос: «Мы с вами должны спасать Женю, ему уже раньше был поставлен диагноз: “арахноидит”, его мозг может быть в любую минуту подвержен необратимым процессам… возможно, потребуется хирургическое вмешательство».
Я не знал, что такое «арахноидит». Но мне стало страшно.
—Да я уже десять лет как инвалид, а вот живу же,—сказал Шифферс, когда я рассказал ему о встрече в обкоме.
—Я понял, что они от тебя не отстанут,— сказал я.
—Надо лечь на дно,—решил Шифферс.
«Лечь на дно»—исчезнуть из города. И надолго. Правда, мы и так исчезали в последние годы, пробавляясь гастролями по Псковской, Новгородской, Великолукской областям. Мы с моей женой Людмилой, входившей постоянно в нашу группу «бунтарей», зарабатывали тем, что ездили по провинции с так называемыми «встречами киноартиста со зрителями». Играли сценки-скетчи, я читал стихи, в паузах между номерами крутили отрывки из фильмов, в которых я когда-то играл. В последнее время немудреное действо «встреч» конферировал невысокого роста крепыш с огромным лбом и жгучими глазами—Евгений Шифферс. Никаких планов на будущее у нас не было. Ни нам, ни Шифферсу в Ленинграде ничего не светило, а тут еще этот вызов меня в обком партии, но вдруг…
«Вдруг» всегда случается в нужное время и в нужном месте, и хорошо, если это «вдруг» влечет за собой удачу. Это был как раз «тот самый случай».
Как-то я забрел на «Ленфильм» в надежде получить шанс—попробоваться в какую-нибудь запускающуюся картину. В моем багаже было к тому времени больше двух десятков лент. А вдруг?.. И буквально у входа в актерский отдел встретил старинного приятеля Марка Рысса, некогда администратора в группе фильма «Овод», а ныне руководителя Второго творческого объединения «Ленфильма».
—Слушай, ты мне вовремя попался. Ты же знаешь в городе многих… Мне нужен умный и тактичный режиссер—«серый кардинал» к Гаврилычу.
В переводе на понятный язык: «Гаврилыч»—кинорежиссер Александр Гаврилович Иванов, народный артист СССР, лауреат и прочее, и прочее, нуждался в режиссере, который в ранге «ассистента» или «второго режиссера» «пахал» бы на его фильме, сам при этом оставаясь в тени. Такая практика в кино известна.
—Если сработается твой кандидат с Ивановым, то есть, если Иванов не выгонит его раньше срока (ты же знаешь, каков он, наш «Гаврила»),—пусть этот парень просит у нас что хочет, хоть собственную постановку. Мы не обманем. Я слово держать умею. Так что ты поищи, поспрошай вокруг и через недельку…
Я без паузы:
—Недели не нужно. Есть такой!
—А кто?
—Шифферс.
—Опять евреи…
Марк искренне опечален.
—У нас директор объединения—Рысс, директор картины—Рабинов, оператор—Шапиро, а теперь еще и второй режиссер Шифер…
—Шифферс. Немец. Петербургский немец. Два «эф» и «эс» на конце.
—Ну что ж… веди ко мне твоего Шифера… Поговорим...
Шифферс поговорил с Рыссом, Рысс—с Ивановым. Иванов—с Шифферсом. Потом была встреча втроем—с автором сценария будущего фильма Ольгой Берггольц. Потом к разговорам подключился Евгений Шапиро—кинооператор, а вскоре Евгений Шифферс привел в группу замечательного художника Михаила Щеглова, нашего общего друга, и московского композитора Николая Каретникова. Шифферс быстро наметил состав актеров, провел пробы. Иванов пробы утвердил.
Забегая вперед, скажу, что Александр Гаврилович Иванов проявил необычайное мужество, стоял как скала, отстаивая в процессе создания фильма от всех и всяческих нападок своего «второго»—Шифферса, ставшего фактически полноправным сопостановщиком ленты.
Зато уже после всех проработок и разгрома, после изнурительных собеседований в Москве и в ленинградском обкоме партии, наконец, после запрещения фильма к показу, на излете жизни, Александр Гаврилович выпустил мемуары и даже не упомянул Евгения Шифферса. Допускаю, что редакторы его мемуаров именно так отредактировали рукопись старого мастера. Он сам в выпуске книги уже не участвовал. Вскоре его не стало.
Иванов, хотя и держался несколько в стороне от реальной и суетной киножизни, но все же не был «генералом на свадьбе» на своем фильме «Первороссияне». Я видел его, неизменно сидящим в своем режиссерском кресле у штатива кинокамеры. Всегда учтивый в отношении Иванова Шифферс, который сам по своему усмотрению проводил все репетиции с камерой и с актерами, обычно спрашивал: «Снимаем, Гаврилыч?» Александр Гаврилович Иванов кивал, Евгений Шифферс командовал: «Мотор!»
Доверие к таланту партнера—неотъемлемая часть собственного дара. Мне кажется, что Иванов в душе был, как и многие, заворожен своим вторым режиссером и его командой.
Марк Рысс в благодарность за мое «сватовство» выдал и мне «бонус»:
—У тебя роль в фильме разбросана по разным объектам и эпизодам. Возить тебя туда-сюда, из Питера в Теберду, а потом снова в Питер—нерентабельно. Я договорюсь с Борисом Марковым (директором ленинградского телевидения), чтобы ты для них снял фильм. Придумай—что и как, набери группу, найди оператора на телевидении. Они там нищие, но я дам пленку и какие-то деньги. Снимай. Нам реклама, тебе—удовольствие.
Удовольствие стало судьбой, мы с моей Людмилой ежедневно стояли за кинокамерой. И почти все съемочные дни в Теберде, если не были сами за-действованы в кадре как актеры, с оператором Максимовичем и ассистентом Снежкиной снимали фильм о том, как снимались «Первороссияне». И учились у Шифферса ремеслу, которое он постигал в это время сам. И радостно делился своими знаниями.
Названный по строчке той же Ольги Берггольц—«Ты видишь, я не забываю…»—наш с Людмилой первый документальный фильм имел два слоя: история реальных «первороссиян», небольшой группы питерских рабочих, бежавших в 1918-м от голода и холода из Питера на Алтай, и история съемок фильма «Первороссияне». Мы записывали разговоры с Ольгой Берггольц, брали интервью у создателей фильма, ушли с головой в архивы и семейные альбомы.
Но еще до завершения нашей картины разразился скандал вокруг «Первороссиян», и на Ленинградской студии телевидения нас принудили отказаться от идеи «фильма о фильме», предложив делать очередной пропагандистский фильм к наступающей дате пятидесятилетия Октября. Было жаль потраченных месяцев работы, жаль каких-то задумок, каких-то сцен, но к тому времени главного участника скандальной эпопеи с «Первороссиянами»—Евгения Шифферса—в эфир уже давать было нельзя, а делать вид, что его вообще на фильме не было, мы не могли. К тому же мы были на Ленинградском телевидении еще никто—приглашенные свободные сотрудники (да даже и будь мы «кто», то есть со стажем на ТВ, то все равно—кто тогда, в 1967-м, мог вообще спорить с партийным руководством!?). Фильм «Ты видишь, я не забываю…» прошел, тем не менее, с успехом, но где он теперь, я не знаю, концы его найти невозможно.
Так наш «младший брат», как называл нас Шифферс, разделил судьбу «брата старшего».
А пока 1966 год. Все впереди—и радость творчества, и горечь обид. Подготовительный период. На правах старого друга и актера, уже утвержденного на одну из главных ролей, я захожу иногда в кабинеты съемочной группы «Первороссиян». Евгений Шифферс и Михаил Щеглов, сидя наполу, «конструируют» режиссерский сценарий будущей ленты. Это не разбивка текста литературного манускрипта на отдельные кадры, когда главными инструментами служат клей и ножницы, это не только технические заметки, как снимать тот или иной план. Здесь в работу шли фломастеры, гуашь, мел… Каждая строчка текста неотрывно была связана с щегловскими эскизами, черновыми набросками, пачка которых росла с каждым днем. Эскизы превращались в картины-кадры. Потом картины «оживут» на экране: один к одному.
Подстать тандему Шифферс-Щеглов оказался и приглашенный на картину композитор Николай Каретников. Каретников написал впоследствии в книге «Готовность к Бытию»: «…я встретился с режиссером Евгением Шифферсом, который мне предложил выполнить совершенно оригинальные задачи, некую особую игру. Ради нее убирались реплики, убирались шумы. Каждому звуковому компоненту уделялось особое внимание. Если это, к примеру, шум, то самый характерный, имеющий драматургическое значение и как будто бы ранее нами не слышанный. Такой шум невероятно усиливался. И скрип двери, к примеру, звучал так, будто бы открывались огромные крепостные ворота* (* Следует отметить, что этот фильм создавался за пятнадцать лет до картины «Мой друг Иван Лапшин» А.Германа). В такой звуковой системе музыка должна взять на себя совершенно иные функции. К примеру: едет всадник, нужно передать настороженность, напряжение, его готовность к действию, но еще и отобразить скок лошади, так как стук копыт сознательно не подкладывался. <…>
Вместе с работой художника, оператора и актеров музыка составляла условную стилистику, обозначенную в знаковых системах»1.
Конечно, даже сегодня трудно все понять в описании Николая Каретникова, но ясно одно—непродуманно, случайно ничего не делалось. И на пустом месте—тоже.
Шифферс настаивал, чтобы рутинный просмотр рабочего материала был на самом большом экране киностудии:
—Мы снимем на 70-ти миллиметрах, а не на 35-ти. Зрители будут смотреть фильм на гигантских экранах в кинотеатрах, где будет стоять 70-ти миллиметровая аппаратура. При таком увеличении все становится монументальным. Нельзя фиксировать как бы реальную жизнь—ее надо конструировать «под кадр». Надо приспосабливать игру актеров, наш монтаж и движение камеры к параметрам будущего широкого экрана.
Не потому ли просмотренные на мониторе или на экране компьютера «Первороссияне» блекнут, и только на большом экране они как бы набирают свет и цвет?
Помню, как однажды я встретил Шифферса и Щеглова, идущих в просмотровый зал на «Ленфильме». Они несли с собой какие-то коробки с пленкой.
—Хочешь посмотреть?
—Что?—спросил я.
—Довженко, Эйзенштейна, Барнета и… раннего Александра Иванова.
Вот тебе и наш «Гаврила»!
Иванов верил Шифферсу, и Шифферс постепенно становился все более значимой фигурой в производстве «Первороссиян» и на киностудии. Кто-то был безоговорочно предан ему, а кто-то бегал к Александру Гавриловичу с жалобами—ведь в России всегда при возникновении проблем их не решают, но ищут тех, на кого и кому можно было бы пожаловаться. Но к Иванову жалобщикам вскоре стало бегать неудобно—тот во всем стоял на стороне своего молодого второго режиссера. Да и требования «Львовича» (так его стали называть, а было ему тридцать три года), как правило, были логичны.
Устраивались худсоветы студии «Ленфильм»—мастера и высшие чиновники смотрели сырой материал. Не забудем, что это же был особый фильм, приуроченный к полувековому юбилею Октября. Критиковали, возмущались: «Красить костюмы и лица одним цветом? Красить вокзалы, поля, горы, людей и лошадей?» «Это не кинематографично. Это же опера-вампука!»—говорили другие. Но Козинцев, Кошеверова, Дудко, Шнейдерман, мастера старой школы, которые не понаслышке знали время великого советского авангарда, да и молодые—Савва Кулиш, Элем Климов, Глеб Панфилов, Геннадий Полока—видели в новой картине возрождение эпоса и трагедии.
У меня остались некоторые записи, сделанные во время работы над фильмом «Ты видишь, я не забываю…»
Вот Евгений Шифферс говорит о поисках новых форм, об «опасном очаровании широкого экрана» и игре актеров в условиях колоссального увеличения… А вот посвящает свой спич Александру Гавриловичу: «Вы посмотрите, Александр Гаврилович Иванов. Пулеметчик первой мировой. Красный командир. Первый орден—орден Боевого Красного Знамени—вручен в 1919-м. Но вот мне этот красный пулеметчик недавно читал стихи Николая Гумилева* (* В то время еще не реабилитированного. (Прим. Ю.П.)). <…> Своим примером этот человек доказывает, что Личность самоценна. Личность—вне ситуации, ее не смутишь условиями и условностями…»
И далее: «Гений Иисуса Христа в том, что он провозгласил: “Царство Мое не от мира сего”. А “мир сей”—сиюминутная ситуация. Посредственность, серость, арифметическая единица—число в толпе, раб ситуации и враг Личности. Посредственность может стать героем ситуации, ее жертвой, но не может сломить ее. Ленин и Наполеон были гениями ситуации и, приспособившись к ней, из гениальных заговорщиков и полемистов выродились в функционеров».
Евгений Шифферс говорил: «Снимая фильм о революции, прочувствованной и осознанной большим Поэтом—Ольгой Берггольц—мы должны снимать не драму, но трагедию, <…> никого не копируя, не становясь эпигонами, мы должны влезть в шкуру создателей “Октября”, “Земли”, “Броненосца «Потемкин»” или художников “Окон РОСТА”. Нам нельзя шепотом рассказывать о революции».
Я—актер. Я играю главного врага коммунаров, их убийцу. Я загримирован и одет в костюм белогвардейского есаула Шуракова и сейчас стою посреди громаднейшего павильона, абсолютно белого, без линий пола и стен… Дым выбеливает пространство вокруг меня, и конца пространству нет. Я как бы плыву во взвеси белого цвета. … Передо мной на расстоянии двух-трех десятков метров стоит стол, за которым как на иконе и под стилизованными иконами, восседают в белых одеждах с выбеленными белилами лицами старцы-староверы. Мой текст: «У них Бога нет. И царя убили. Всех их под корень рубить надо…»
Шифферс недоволен моей игрой. Дубль, второй, третий… Съемка останавливается.
Следует шифферсовский монолог, который звучит примерно так:
—Это не конфликт характеров, личностей. Это конфликт религиозных идей—староверов и коммунистов. Да, столкновение двух религий. А это—повод для трагедии.
Трагедия и комедия—полюса драматического искусства. В чем разница этих жанров? В скорости проживания. В комедии все ускорено—в течение минуты-двух Хлестаков успевает и поклянчить денежку, и поесть курицу, и пожаловаться на хозяина гостиницы, и соврать о своей жизни в столице и постращать провинциалов… Хлестаков торопится, он постоянно заливается своей буйной фантазией, его время сжато: «Курьеры, курьеры, тридцать тысяч одних курьеров!», «…с Пушкиным на дружеской ноге… что, брат Пушкин?» Смешно? Да, смешно. А Гамлет? Четыре акта принц рассуждает: «быть или не быть» или: «убить или не убить», но он заставляет нас жить в своем ритме и скорости, «пожевывая» ситуацию со всех сторон, время в трагедии как бы под лупой, оно растянуто вглубь. Если мы снимаем трагедию, а мы снимаем трагедию, а не драму, то в ключевых моментах мы должны дать почувствовать время, растянуть его и… заполнить.
И еще:
—Действуя в кадре по принципу не «потому, что…», а «для того, чтобы…» ты должен знать, как будет это выглядеть на экране… тебя увеличит экран в тысячу раз. <…> Слово в минуту, но паузы—напряженность, а не отдых между словами. Без отдыха в паузах… Знай, что на тебя будет смотреть не стеклышко объектива киноаппарата и не толпа зевак—киногруппа вместе с режиссером—а тысяча глаз, аудитория гигантского кинотеатра, и ты на экране, в тысячу раз больший, чем в жизни, говоришь самое главное в сюжете фильма. <…> Так что не копайся в своей памяти и не тужься, вымучивая в себе картинку—как бы на самом деле ты—белый офицер и говоришь ты с кулаками-староверами. Все это будет вымучено, неискренне и не нужно. Ты закрой круг общения на самом себе. Приготовились. Мотор! Начали!
Так со мной еще никто на киносъемках не говорил. Так с актерами никто на моей памяти не работал.
Иванов говорил: «Пусть ребята [Шифферс и Щеглов—Ю.П.] пробуют, концепцию их я одобряю, с их мыслями я в принципе согласен».
Шифферс: «Мы должны впитать в себя дух революционного времени, его эстетику, его ритмы, мы должны попытаться уловить пульс художников того времени и отгадать секрет взлета искусства в те годы».
Иванов: «Я был командиром пулеметного взвода большевиков и в ночь на 25-е октября я был как раз в Петрограде. Ничего подобного тому, что изобразил Сергей Эйзенштейн, не было. Не было атаки на Зимний со взбиранием матросов на решетчатые ворота под аркой Генерального штаба, не было тысячной толпы солдат и рабочих. Матросов было вообще сотни три, многие были пьяны. Постреляли, покричали. Да, бежали через площадь к дворцу, защитники-юнкера разбежались кто куда, женский батальон еще сопротивлялся, но его смяли… наступавшие бежали во Дворец—грабить, вскрывать винные погреба, насиловать, бить… Но весь мир навсегда будет знать, что был в России Октябрь с большой буквы, и все было так, как изобразил Сергей Эйзенштейн. Он спас лицо Октябрю перед Историей».
Шифферс: «Мы рассказываем не притчу—мы пишем Евангелие».
Щеглов: «Пишем чистыми красками, это все не фотография, а икона, как у Андрея Рублева—золотые горы и черные леса, золотая рожь, обратная перспектива… Черные кони убийц и черная земля могил… Черные обугленные дома и черные кони и костюмы поджигателей. Цветные главы—это работа со зрительским подсознанием… Не лица—лики. Как на иконах».
Шифферс: «В фильме Ленин не цитирует сам свои же, реально написанные в тишине кабинета строчки, которыми нынче “для проходимости” прикрываются драматурги, создающие поделки на темы революции… а это случается у нас сплошь и рядом. Ленин молча смотрит на наших героев. И на нас. И герои картины—первороссияне—смотрят на нас. Вот почему направление всех крупных планов—в зал, именно в зрительный зал, а не куда-то мимо объектива…Заманский и Нилов, Смирнов и Данилина, Крымова и Маслов смотрят на нас, сидящих в зале, их глаза вопрошают: “Так ли вы живете в жизни, за которую мы полвека назад отдали свои жизни, товарищи?”»
«Так ли вы живете?»
Именно в этом был крюк, которым «Первороссияне» зацепили советскую власть. Критики, которых потом призвали громить ленту, искали ошибки фильма в стилистике и в монтаже, в музыке и в игре актеров, но секретарь Ленинградского обкома КПСС, в недавнем прошлом прораб-водопроводчик Василий Толстиков на просмотре кричал: «Вы вашим фильмом упрекаете нас, сегодняшних коммунистов, что мы не такие идеалисты, как коммунары 1918-го!»
Этот упрек заложен в фильме-трагедии «Первороссияне» самой Историей…
Максимализм «Первороссиян»—причина неприятия этой картины властями, а не «художественные ухищрения» или «формализм» ленты. Мы тогда еще искренне пытались спасать то, что безвозвратно шло ко дну…
1. К а р е т н и к о в Н. Готовность к бытию // М.: Издательское объединение «Компози-
тор», 1994.
http://www.kinozapiski.ru/data/home/articles/attache/201-208.pdf
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:25 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Иван КРАСКО: «ДЛЯ ШИФФЕРСА ВСЯ ЖИЗНЬ БЫЛА ЭКСПЕРИМЕНТОМ»
—Иван Иванович, вы познакомились с Шифферсом еще в театре?
—В театральном институте, примерно в 1962-м году. Он там учился, а я уже был артистом БДТ. На курсе Товстоногова—первом его режиссерском курсе, где были Вадим Голиков, Юрий Аксенов, Михаил Резникович—Евгений Алексеевич Лебедев ставил спектакль «Двенадцать разгневанных мужчин». У них не хватало мужиков, и дядя Женя предложил мне: «Сыграй роль Генри Фонды». Один раз всего сыграли. Шифферс, который учился на курс младше, пришел после просмотра и страшно смутил меня, сказав: «Ну, и что бы вы делали, если бы не было Ивана?» И все пожали плечами: мол, да.
А дядя Женя на восьмидесятилетии, когда я его поздравлял, сказал: «Ванька, я ведь за тобой слежу». Я говорю: «Спасибо, мастер! Спасибо, дядя Женя!»—«Ты знаешь, что у тебя лучшая работа все-таки была в “Двенадцати разгневанных мужчинах”?» Может быть, может быть…
А год спустя вышла «Антигона». Премьера состоялась в Доме актера. Гога [Г.А.Товстоногов, художественный руководитель БДТ—П.Б.] смотрел, был на обсуждении. После этого мы сыграли ее на Исаакиевской, в НИИ нашем, где-то еще—всего три-четыре раза. Немного… Это уже 1963-й. А в начале 1965-го я ушел из БДТ.
—К Шифферсу?
—В принципе, да. Если бы не он, я бы в БДТ сидел долго. Куда рыпаться? Я не такой инициативный. А Женя предложил перейти к нему, в Областной театр. Ну, я с удовольствием, у меня к нему было полное доверие после «Антигоны».
Для Товстоногова это была такая обида! Он минут сорок—сорок пять мне выговаривал. Задавил абсолютно своим монологом: я уже думал, что БДТ распадается, в моем лице уходит и Копелян, и Луспекаев... Попытался было вставить слово, но Товстоногов не дал. Потом я разговаривал с директором, Леонидом Николаевичем Нарицыным. Он говорит: «Ваня, чего ты вдруг уходишь?»—«А чего я буду сидеть ждать? Я старше своих однокурсников». Нас трое пришло в БДТ—Володя Максимов, Алина Немченко и Жора Штиль. Жора—года на три, а Володя и Алина—на девять-десять лет моложе меня. Им еще был резон ждать, надеяться. А мне? Чего я играл? Гость на балу, Володя в «Старшей сестре»… Володя Рецептер заболел—так, слава Богу, меня ввели на роль Владика в спектакле «Еще раз про любовь». При этом я у Гоги много играл в курсовых работах его режиссеров. И он каждый раз говорил: «Вана, я увидэл вас в новом павароте», или: «Вана, я тэпэрь знаю, как вас использовать на тэатрэ». Но ничего не менялось. Директор мне говорит: «БДТ такая марка!»—«Да я-то не филателист…»
В Областном театре Женя поставил «Маклену Грасу» Кулиша—это еще без меня. А со мной уже был «Кандидат партии» Крона, мы с ЮлианомПаничем играли антиподов. Театр областной—приходилось, естественно, ездить по области. И когда в одном Дворце культуры оказалось тринадцать зрителей, я сказал: «Женя, какой смысл нам работать в этом театре? Ради этого, что ли, мы собрались?» И мы все ушли из театра. Я попал к Сулимову, в Театр имени Комиссаржевской (где и работаю до сих пор). Это все еще был 1965-й год. Ну, а через год меня позвали сниматься в «Первороссиянах».
—Там из актеров Шифферса—вы, Юлиан Панич и Ольга Волкова?
—Еще Володя Маслов, Леша Бондаренко, Коля Муравьев. Леша и Коля в эпизодах промелькнули. У Маслова—главная роль: священник, расстрига.
—Да, у него хорошая роль. А в каком он театре играл, что с ним сталось?
—Он кукольник, работал в Большом театре кукол. Даже был одно время художественным руководителем. Сам писал сказки и сам ставил их… Помер внезапно—разрыв сердца. Молодой совсем. Володя иногда так нас смешил и выводил из себя! Например, стоим мы около Театрального института, он говорит: «Да что система Станиславского! Устарела. При чем тут это все: логика, “надо все обосновать”, “петелька, петелька”?» Проходит мимо девушка. Он—хоп!—и с нее туфельку снимает: «Вот модель, посмотри. Ведь нет похожих, понимаешь?» Я слежу за девушкой, мне смешно, она стоит в шоке. Володя ловит мой взгляд, смотрит на нее: «В чем дело? Что, ваша, что ли? Ну, а чего вы тут, ей-богу?.. Идите себе!» Пауза. «Вот,—говорит,—жизнь. Я это исповедую. Неожиданное вхождение в образ и—на полном серьезе».
Как-то Володя вместе с Сашкой Моченковым на Малой Садовой, возле Елисеевского магазина, устроил такой этюд. Пришли туда с чемоданчиком, стетоскопом, молоточком, рулеткой и стали размерять и простукивать асфальт, к чему-то прислушиваясь. При этом на всех орали «социальным» голосом: «Не мяш-шайтя! Уйди-е отсюдэ-э!» А между собой перебрасывались такими репликами: «Вот сволочь Елисеев! Нам теперь ищи! Куда он это дел?» Тук-тук. Народ сразу насторожился, стал скапливаться. И пошла волна: «Елисеевский клад ищут!» Запрудили Малую Садовую. Володя с Сашкой выбрались из толпы и наблюдают, что дальше будет. Подошел милиционер: «В чем дело?»—«Да, вот, клад ищут, Елисеев после революции зарыл».— «Кто ищет? Где?» Смотрят: линии мелом нарисованы, а рабочих нет…
—Я почему спросил об актерах? Интересно, как принимали эстетику «Первороссиян» актеры кинематографические, с Шифферсом до этого не работавшие.
—Думаю, что почти никто не понял систему Шифферса «изнутри». Актеры не в состоянии в ней работать, хоть и пытаются. То есть, на нашем, актерском, языке, они просто прикидываются. В фильме ведь очень мало говорят. И говорят индифферентно, не заинтересовано, не эмоционально. Ну, разве что Мишенька Щеглов, женин друг и единомышленник, в роли настройщика—вроде ничего не делает, но так выглядит! Панич мне тоже понравился. Еще Оленька Волкова, правда, эпизод у нее слишком маленький. Мы одну школу исповедуем, вместе играли «Антигону»…
А в остальном—как было? Шифферс говорил: «Вот он говорит так-то»,—и актер все точь-в-точь повторял. Помню, у Жени был спектакль «Что тот солдат, что этот» в нынешнем Малом драматическом театре. Я пошел посмотреть. Говорю потом: «Женя! Они же все тебя играют. Ты такое сильное воздействие на актеров оказываешь! И интонация, и пластика—все твои». Он засмеялся: «А как же! Что тот солдат—что этот».
—Неужели он и Александра Крона в таком же ключе ставил?
—Нет, «Кандидат партии» был совершенно реальный спектакль с простой идеей—один человек делает дело, а второй лезет в профсоюзные вожди. Я играл Колю Леонтьева, талантливого токаря, на велосипеде по сцене катался… А Юлька Панич—того, который в вожди лезет. Расслоение общества у Шифферса четко было прописано. Тогда-то власти и насторожились.
—У него все спектакли вызывали скандал.
—Да. В театре Ленинского Комсомола у него был спектакль «Ромео и Джульетта». Играли в современных костюмах, чуть ли не в фашистском обмундировании. Боя Тибальда с Ромео как такового не было—Ромео просто пырял ножом своего соперника. Я сказал Жене: «Ты совершил грубейшую ошибку. Ведь что такое катарсис? На мой взгляд, это сопереживание. Сначала я, зритель, влюбляюсь в героя, а потом, когда он гибнет, мне его жалко. Вот и катарсис. А у тебя этого хулигана уличного, которого ты сделал из Ромео, мне не жалко». За этот спектакль Женю потом долбанули—где-то на Волге на гастролях подстроили возмущенное письмо от рабочих, в общем, организовали травлю. Да и фильм еще добавил… И Женька вынужден был уехать из Питера в Москву.
–Крон, действительно, реалист ортодоксальный. А, вот, «Антигона»—это все-таки Ануй. Насколько мне известно, спектакль Шифферса был вполне условным.
—Декораций на «Антигоне» не было, костюмы современные—у меня были черные брюки, белая рубашка с закатанными рукавами и жилетка. На ней я настоял—так рукава смотрелись выразительней. В «Кандидате партии» Шифферс почти не вмешивался в то, как мы создаем рисунок роли—мы с Юлькой типажно подходили, ему этого было достаточно. А в «Антигоне»—совсем другое дело. Я, например, в роли Креона должен был сидеть, перекрестно положив руки на колени. Я стал отказываться: «Чего это?! Мой герой крепко стоит ногами на земле. Конкретный мужик. Он не может все эти штучки выделывать—вот он как сидит». [Упирается руками параллельно в колени, выставив локти наружу—П.Б.] Так потом Женя принес мне групповой портрет: Сталин сидит среди военачальников как раз так, как я ему показал. «Иван, ты прав! Но откуда ты знал, что царь так должен сидеть?»—«А как иначе? Это ты мне скажи, как ты ту свою позу выдумал?»—«Ну, это древние. Символы…» Я перебил: «Для меня, Женя, символизм… да пошел он! Мне важно изнутри все прочувствовать».
А ведь сначала я отказывался от роли Креона—какой из меня царь, я же крестьянский парень. Но Женя меня поддел: «Мое дело дать тебе роль. А твое—сыграть, если ты артист!» О-о, тут во мне фанаберия моя профессиональная взыграла: «Ну, ладно, ладно. Хорошо. Я тебя понял». Стал думать: кто такой царь? Главный человек. Если взять Фивы—можно предположить,что это большая семья, а Креон—отец. И, как отец родной, я стал «прощупывать» взглядом всех встречных на Невском: мол, нравится ли вам в моем государстве? Довольны ли вы, мои подопечные? Я сутулый был, застенчивый. А тут вдруг появилась осанка царская, стал впервые в жизни в глаза людям смотреть. По-разному мои опыты воспринимались. Старички иногда кланялись. Кто-то меня узнавал (по телевизору я мелькал уже), здоровался. Один дед с Юрой Родионовым из Пушкинского театра перепутал, долго хвалил: «Какой вы хороший артист!»… И Шифферс уже стал мне говорить: «Иван, ну, все! Я вижу—в тебе много царского появилось. Молодец!»
Но я был недоволен. Ведь суть пьесы в конфликте Креона с Антигоной. А она явный бунтарь. Значит, мне надо найти в жизни похожего человека и победить его. Сидят, допустим, в метро шесть человек напротив меня. Я начинаю «прощупывать» их властным взглядом. Бабулька одна «узнает»: «Ой, милок, ты же из Алексеевки!» Я ей: «Да, бабуль, ну, как там мои?»—«Да зря ты их бросил! Бедствуют!»—«Ничего-ничего. Приму меры». Какая Алексеевка?! Впервые слышу…
Если пьяный сидит—ему на мои взгляды наплевать. Девушки краснеют, естественно. А однажды я наткнулся на парня-атлета, который, даже сидя, был на голову выше других. Ему сходу не понравилось, что я на него уставился. Я же сразу почувствовал—вот он! Он злиться стал, пятнами пошел. Я взгляда не отвожу. Уже народ заинтересовался: «Чего это они сцепились?»—«Наверное, знакомые. Видишь, этот ерзает, смотри-ка! Чего-то натворил». Парень задергался. Думаю: «Ага, понял. Твоя остановочка, да? А ты не выходишь». Видимо, заело его, дело чести—не сдаться. А моя задача—его дожать. Я должен его победить. Вот и последняя остановка, объявляют: «Автово. Просьба освободить вагоны». Все выходят, на нас поглядывают. Оказывается, это как мощная тетива, как струна—взгляд этот, связывающий нас. И он тогда говорит: «Что, может, выйдем?» Злой! Его трясет всего! Встает, смотрю—он выше поручней: «Да-а! Не с тем связался». Но интересно. А он выходит из вагона, пятясь. Испугался! Иду за ним, атлет держит дистанцию в четыре-пять шагов. Я говорю: «Подожди, сынок, сейчас все объясню. Дело в том, что я царь…»—«Псих, да? Из психушки сбежал?»—«Да, нет. Я артист, я репетирую царя…»—«Пси-их! Сволочь!»—и бегом. И тут-то я понял, что стал царем.
На репетицию, конечно, опоздал. А Шифферс актерам сказал: «Чего это Иван так опаздывает! Мог бы позвонить, предупредить. Ладно, не обращайте на него внимания, когда придет, скажет: “Извините!”—а вы не отвечайте, не разговаривайте с ним».
Прецедент уже был. Фаина Григорьевна Раневская опаздывала на репетицию, и Юрий Александрович Завадский решил ей устроить бойкот: «Она придет, скажет: “Здравствуйте, товарищи!”—а вы не отвечайте!» Прошло минут пятнадцать, и неспешная наша королева, Фаина Григорьевна, вошла. Произнесла степенно: «Доброе утро, коллеги!» А коллеги все сидят молча, исполняют указания режиссера. Она посмотрела на часы на стене и сказала: «Стра-анно! Уже пятнадцать минут двена-адцатого, а никого нет. Пойти пописать, что ли?» И весь бойкот, конечно, коту под хвост. Фаина Григорьевна знала всегда, как надо выйти из положения!
Так и я, вышел из актерской комнаты (в Доме актера дело было) и сразу крикнул: «Антигона!» Ольга рванулась, вспомнила про бойкот и снова села. А Шифферс сразу включился в игру: «Исполняй! Стражники! Почему не на месте?» Они, как кролики перед удавом—фьють! Все встали по местам, и репетиция сразу и пошла—прогон получился. Шифферс после говорил: «Крестьянский парень, а нашел же! Настоящий царь!» Это единственный у меня случай был, когда я зерно роли нашел—царь не имеет права отводить взгляда! С тех пор, кстати, я перестал быть стеснительным. И поэтому играл в театре и Ивана Грозного, и генерала Серпилина в «Живых и мертвых», и всяких министров и царей на телевидении.
—Кстати, Феодосий в «Первороссиянах» тоже близок этим вашим героям.
—Да. Хотя я сейчас не понимаю, что Женя хотел от меня, и что вообще он хотел сказать в фильме.
–А тогда вам как казалось? Что это для Шифферса только формальный эксперимент, или же есть какое-то «человеческое содержание»?
—Человеческого там, по-моему, только тема отца и дочери, вроде бы, и совсем не главная. Но это поневоле работает, когда фильм заканчивается такой мощной сценой… Потеря дочери—как наказание, что ли… Но, на самом деле, я не знаю, как он это трактовал. Тогда мы на эту тему с ним не разговаривали.
—Конечно, у вас был сценарий. Интересно, актеры представляли себе фильм целиком или только «локально», по кусочкам?
—По кусочкам, по кусочкам. В Теберде я сидел всю экспедицию, три или четыре месяца. Роль у меня небольшая, я подолгу не снимался и бесился: «Женя! У меня дочь родилась, Юлька. Я ее только принес из роддома и сразу же к тебе». Но Шифферс меня не отпускал: «Сиди! Ты мне нужен здесь». Я в отместку издевался над ним: «А чего ты ветродуй все время снимаешь? У тебя ветродуй—главный герой, что ли?» Жили мы в глуши, заняться нечем. Как-то с актером Колей Кузьминым пошли в местный магазин. Стоит портвейн «Солнцедар»—жуткий!—и водка по прозвищу «Коленвал» (на этикетке слово «водка» лесенкой было напечатано—водка), причем на пыльной полке, где стоит этот «Коленвал», табличка: «Уксуз». Нам это очень понравилось, и мы с Колей с тех пор так и говорили: «Пойдем, бутылочку “Уксуза” возьмем». Не спивались, естественно, но для удовольствия—почему не выпить? И в карты играли. Шифферс приговаривал: «Сиди-сиди! Я знаю, что ты ночами в карты играешь. Хрен с тобой, играй! Для настроя нужен ты мне—и все!» Так и не отпустил.
—И все-таки, что он от вас хотел? Какие давал задания? Или только указания, куда встать, как повернуться?
—Да нет, указаний не было. Правда, сам меня постриг: здесь отхватил клок, там—клок. Была такая благообразная прическа, стал же каким-то общипанным, как мне тогда казалось. А сейчас смотрю: все по делу. Еще он провел общую беседу: «Ты понимаешь, что такое старовер? Это человек сурровый!»—«Ну, да, Женя, конечно, понимаю». Но на самом деле, я многое понял потом, когда снималась сцена молитвы, где я людей на убийство благословляю. В конце я должен был руками свечи погасить. Сначала прорепетировали—все нормально. Зажгли свечи, снимаем первый дубль. Я стал руки к свечам подносить—вдруг адская боль! На экране даже видно, что я ускорил движение от боли и глаза закрыл. Сразу вскочили волдыри. Решили еще дубль сделать. «Гримеры, уберите волдыри!» А как их убрать? Замазать не получается—на крупном плане все равно видно. Но каким-то образом сняли второй дубль. Мне уже не так больно, я в раж вошел: «Третий дубль, актерский, можно?» И тут дядя Женя Шапиро, оператор, заорал: «Уберите Ваньку из кадра! Он с ума сошел, вы что, не видите? У него уже эйфория. Вон, вон из кадра! Не буду снимать!» А в картину вошел, кстати, первый дубль.
—То есть Шифферс, по сути дела, пустил вас на самотек?
—Он мне доверял, поэтому не заставлял выполнять все то, что требовал от других. Не ломал меня. Но под его гипнозом многие находились.
—И никто не бунтовал?
—Нет, как ни странно. Вот, Влад Заманский—прекрасный артист, он тогда для нас большим авторитетом был. В «Современнике» же работал! Но в фильме он мне показался совершенно неубедительным, потому что был полностью «задавлен» Шифферсом. У Жени характер был, конечно, железный. Если уж он такого волевого человека, как Гога, мог урезонить… Помню их разговор по поводу «Антигоны»: «Жэна, Жэна, понимаетэ,—Георгий Александрович взял Женю за пуговку на пиджаке,—Жэна, я все понимаю, но это не так надо было... Это философский диспут, понимаэтэ, пьеса такая, понимаэтэ…» Тут Женя в свою очередь взял Гогу за пуговицу (тот оторопел): «Георгий Александрович, вы афишу видели? Там написано, что спектакль поставил Шифферс. А если бы вы его ставили, он был бы другой, и было бы написано: “Товстоногов”». Гога плюнул и убежал. В этом весь Женя!
Он же Яна Борисовича Фрида убрал с курса. Фрид был мастером режиссерского курса, где учился Шифферс, а Женя заявил, что мастер не годится. Товстоногов, зав. кафедрой, вскипел: «Что-о? Где-е? Собэритэ мне этот курс! Давно курсовые работы сделали?»—«Месяц назад».—«Показывайте! Первая—дв-войка! Вторая—дв-войка! Третья—двойка!..» Тут Шифферс говорит: «Георгий Александрович! Вы третью работу невнимательно смотрели. У вас, видимо, задача одна—всем поставить двойки?»—«Вашу работу!» Шифферс показал. Товстоногов: «Дальше! Дальше!» Но оценок уже не объявляет. Закончил просмотр: «Я беру этот курс». И Яна освободили.
Женя был очень сильный человек. Посмотри «Интервенцию» Полоки! Это же тоже его влияние.
—Там еще Щеглов был художником. Думаю, многое шло от него. Неужели и Щеглову Шифферс все диктовал, или же он все-таки имел право голоса?
—Име-ел! Мишка самостоятельный человек был. Он мог с Шифферсом спорить.
—А Шапиро? Оператор старой школы, он ведь в такой манере никогда до этого не работал.
—Дядя Женя на «Первороссиянах» с удовольствием работал. С у-довольствием! Он кайф ловил, снимая всех этих всадников зеленоватых на белом фоне.
Вообще, на картине отношения складывались интересные. Александр Гаврилович Иванов просто пожертвовал всей своей биографией, чтобы защитить фильм. Он полюбил Шифферса. Тот его называл «Гаврила»: «Гаврила-а, ты бы поглядел в окулярку?» Александр Гаврилович невозмутимо отвечал: «Дорогой Евгений Львович! Если вы полагаете, что я, сидя в сторонке, не понимаю, что творится в кадре, то вы глубоко заблуждаетесь. Я все вижу». Я поддевал Женьку: «Съел? Что ты хамишь-то?» А он злился. Александр Гаврилович только иногда поправлял Шифферса: мол, так снимать не стоит.
—Но в принципе—картина Шифферса?
—Шифферса, абсолютно вся. Александр Гаврилович, классический реалист, доверился ему… Жажда новизны—хотел посмотреть, чем молодые дышат. Все принял. И статуарность эту, из живописи идущую. Петрова-Водкина ты почувствовал? Это Женин любимый художник.
—Да, конечно. А женщины со снопами, скорее, из Малевича.
Может быть. Как и Марсово поле, которое рифмуется с полем на Алтае. Там специально подкрашивались камни, трава. Белая земля с камушками. Красная земля. Красные кони. Голубые одежды…
—И речь строится специфически.
—Да, Шифферс хотел какой-то отстраненной манеры. Видимо, это его понимание поэтического кино. Но это никак не вяжется ни с линией моего персонажа, ни даже с духом поэмы Берггольц. Например, женский голос, который читает стихи от автора, совершенно не в стиле Ольги Федоровны! У нее голос др-рожит, вибрир-рует, он весь наполнен эмоцией. В фильме голос чистый и… никакой. Даже не помню, кто читает. Это, скорее, в духе агитки, как и Ленин в конце.
—Он был потом доснят, вопреки режиссерскому замыслу. По-моему, во всех остальных кадрах грустный, черный Ленин на красном фоне—это очень интересно.
—Да, этот замысел я понял. И Владимир Иванович Честноков хорошо сыграл.
—Я бы не стал называть это агиткой. Но вы слышали про реакцию Козинцева, который отправился защищать крамольную картину и, пожимая плечами, сказал, что фильм абсолютно «про их»?
—Нет, не слышал. Но Григорий Михайлович абсолютно прав: чего тут защищать? Здесь ведь никакой антисоветчины нет. Да и в поэме Берггольц ее нету. И дело вовсе не в материале, а в его подаче...
Но фильм это не спасло. Что мне известно: при приемке картины Толстиков сказал: «Когда это видано было, чтобы коммунист на колени вставал, жаловался: “Это хлеб, мужики”?» Шифферс на это ответил: «Это самый сильный кадр в моем фильме». Я с ним согласен. Зато от самой сцены пожара, которую я со стороны наблюдал, у меня осталось более сильное впечатление, чем от того, что увидел на экране. Когда вся деревня вдруг вспыхнула—это было так здорово! А на экране только фрагменты. Надо было и общий план брать.
Но, в любом случае, после того, как Толстиков заорал: «Что это такое! Антисоветчина!»—все стало ясно. Судьба картины была решена.
—Это для Шифферса стало большим ударом?
—Не-а! Абсолютно не стало! Он, как бы сказать… Ну, снял—и ладно. Несколько лет спустя я был в Москве, на гастролях, и поехал к нему. Я слышал, что Женя увлекся религией, и спросил: «Ты что, служишь, что ли?»—«Не-ет, я пишу на религиозные сюжеты: всякие новеллы, сценарии. Между прочим, толкования каких-то исторических религиозных событий оказываются убедительными в моем изложении. Мне заказывают».—«А на какой доход живешь?»—«А мне ничего не надо. Я аскетический образ жизни веду. Трех рублей в месяц вполне достаточно—хлеб и вода».—«А я взял с собой бутылочку коньяка на рябине».—«Ты выпей, а мне этого абсолютно не надо».
Он мне показал тогда «Миросозерцание Достоевского» Бердяева. Сказал: «Дать тебе ее не могу, она почти запрещенная. Читай ночью». И я ее «проглотил», совершенно обалдев от прочитанного. Так что он меня «заразил» еще и Бердяевым Николаем Александровичем…
У них с Ларисой родилась девочка, Маша. Женя был при ней няней. Его хотели привлечь за тунеядство, приходил милиционер, но Женя заявил: «Покажите мне закон, где отцу запрещено быть воспитателем ребенка! Я имею полное право не работать»,—и так далее. И милиционер ушел, не солоно хлебавши!
Очень меня тогда Женя поразил, совсем переменился—не сломался, просто нашел другой выход для реализации своих возможностей. Он все равно генерировал идеи, консультировал режиссеров, кстати говоря. Рассказывал: «Я письменно могу дать рекомендацию, планировку предложить, мизансцены все и, главное, идею—о чем пьеса. Многие пользуются, деньги мне за это платят».
—Картину вы за эти сорок лет не пересматривали?
—Нет. Честно говоря, побаивался…
—А тогда вам фильм понравился? В 1967-м?
—Не очень. Статуарность эта мне не устраивала. Я понимал, что это, в общем, формализм—не больше.
—Сам Шифферс был доволен? Или считал, что эксперимент не во всем удался?
—Для него, по-моему, вся жизнь была экспериментом…
Беседовал Петр Багров
http://www.kinozapiski.ru/data/home/articles/attache/209-216.pdf
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:26 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Лариса ЛОНГИНА-СОКОЛОВА
РАСПЯТЫЙ ШУТ. Глава из книги
ПО СЛЕДУ АВАНГАРДНОГО ФИЛЬМА «ПЕРВОРОССИЯНЕ»
Просмотр картины «Первороссияне» (по сценарию О.Ф.Берггольц) и ее обсуждение художественным советом студии «Ленфильм» проходили ранней весной 4 апреля 1967 года. Вся творческая группа под руководством главного режиссера Александра Гавриловича Иванова ждала с тревогой этого «судного дня»1. Она нарушила все общепринятые каноны советского кинематографа. Сегодня архаикой веет от подобных слов. Но судьба «закрытой» киноленты драматична, парадоксальна, как сама жизнь. И мы продолжим в надежде избежать окаменелости, рассказывая живую и почти неизвестную историю.
Итак, фильм снимали к 50-летию Октябрьской революции. К этому времени историко-революционная тематика уже была мало интересна зрителю. А в основе сценария лежала подлинная история коммунаров Обуховского завода Петрограда. Сразу после событий 1917 года, похоронив своихтоварищей, они дали клятву у их могил на Марсовом поле продолжать начатое ими дело и построить первую коммуну на еще необжитых землях Алтая. Они с семьями отправились осуществлять свою мечту, но там натолкнулись на жесткое сопротивление местных старообрядцев и белоказаков. Коммуна была разгромлена, многие погибли. В фильме эта тема обрела звучание реквиема по всем погибшим в Гражданской войне.
Авторы были напряжены. С конца съемок, проходивших еще зимой, за период монтажа и озвучания материал пересмотрело множество народу. По студии и далеко за ее пределами о фильме ползли разноречивые слухи. И сторонников, и противников не оставляла равнодушными новая эстетика, предложенная в фильме. Она игнорировала принципы соцреализма, обращаясь к истокам кинематографа: театру, живописи, фотографии и к немому кино. При этом впервые использовалось последнее техническое достижение тех лет— широкий формат экрана и стереозвук. Одним все это казалось эпатажем, другие приветствовали смелое новаторство. Известно, что звуковому кино, в отличие от немого, стало свойственно тяготение к прозе, к списыванию с жизни. Обычно в картинах история раскрывалась деталями обстоятельств, характеров, подробностями быта. Именно от данного пути полностью отказались создатели «Первороссиян», так как стремились найти не литературные, не иллюстративные, а кинематографические способы, адекватные языку поэзии. Был избран лаконичный язык, а он потребовал от режиссера, художника и оператора жесткого отбора, внутреннего самоотречения и строгой художественной последовательности. Текст почти отсутствовал.
Картина была выстроена по принципу поэтическому: она состоит из Пролога и нескольких глав. Названия их просты: «Клятва», «Пианино», «Земля обетованная», «Муж и жена», «Устав коммуны», «Воскресенье», «Костры», «Красное и белое», и они точно отражают главные события. Каждая глава решена Михаилом Щегловым в своем доминирующем цвете, в определенной цветовой тональности, организованной ритмически, музыкально, пластически, что позволило наполнить фильм предельной концентрацией чувств, чистотой их выражения. Композиции кадров, их мизансцены построены чеканно и подобны строкам и рифмам поэмы.
Еще в период съемок, когда печальная судьба фильма не предвиделась, «Советская культура» писала: «Здесь прежде всего следует, наверное, говорить о колористическом строе фильма, потому что именно в изобразительности его резкая новизна <…>. Цвет используется на экране не как предметный цвет неба или земли, камня <…>, но как очень действенный фактор эмоционального воздействия, как организующее начало, как равноправный, а то и ведущий элемент драматургии фильма»2. Художник в этом фильме возвращает цвету его древнее, изначально знаковое понимание.
Для авторов ориентиром был символический кинематограф А.Довженко, С.Эйзенштейна. «Обобщенная простота, высокая поэтическая условность—все то, что по самой сути противоположно фактографическому натурализму—определяло собой поэтику фильма»3.
Партийное же руководство было напугано трагическим красно-черно-белым трехцветьем, господствовавшим в фильме о революции. Творческая группа замахнулась на «святая святых», и трагедийный путь, по которому она пошла, в корне противоречил методологическим принципам, разработанным главными идеологами режима, охранявшими установленный канон.
Тучи сгущались. По этому поводу художественный совет студии собрал, наверное, всех его членов, что случалось далеко не всегда. Читая стенограммы, обнаруживаешь, что живые впечатления от увиденного все же перекрыли предубеждения, и сложилась, как отмечали сами участники, совершенно не характерная для ленфильмовских заседаний атмосфера некой победы. Жизнь, возникшая на экране, была неожиданна—«это жизнь, упрощенная до великой простоты, ограничившая себя кругом непреложных ценностей, складывающихся из таких понятий, как хлеб, земля, огонь костра, ребенок,—из понятий… предельно простых, близких вечным первоосновам жизни»4.
Образы всех героев, отлитые в молчаливые, строгие фигуры и лица, открыто глядящие в глаза зрителю, покоряли отсутствием суетности, привычных подробностей и обращенностью к глубине. Режиссер, оператор, художник совершенно по-новому организовали огромное пространство экрана. Нет ни одного кадра, забитого толпой: важно было передать не только коллективное сознание, но и каждую индивидуальность. В результате во многих кадрах лица, данные крупным планом, по одному или по двое, окруженные свободной белой бездной на широкоформатной плоскости, обретали значение ликов, обращенных к зрителю всей своей жертвенной глубиной. Каждый—личность. При этом важнейшим было философское цветовое решение, и оно оказалось в высшей степени свойственно и художнику, и режиссеру—они были единомышленниками, продолжая традицию, складывавшуюся еще в искусстве революционного авангарда. Огромные плоскости локального цвета, его контрасты определяли монументальный характер видения происходящего. Модернизм для авторов был лишь сжатым следствием классики и средством эстетической независимости.
Фильм, видимо, приобщал присутствующих к чему-то важному для всех, о чем думали, но не решались сказать, а тут прорвало.
<…>
Во многих высказываниях звучала пробудившаяся после просмотра ностальгия по тем возможностям, которые открылись в изобразительном искусстве, в кинематографе еще в 10–20-е годы XX века и были, казалось, безвозвратно утрачены, а здесь возрождены. Люди ликовали.
<…>
Многие члены худсовета сами были свидетелями этих исторических событий, и их признание в том, что фильм своей правдивостью и подлинностью чувств возродил в их душах сложные переживания тех лет, особенно ценно. И это при абсолютной его условности! В основе всего фильма и каждого его кадра лежал знаковый принцип изобразительности, но сердца отзывались и трепетали!
Сквозь взволнованные, искренние выступления большинства, однако, просвечивает «табу» на проблемы, которые в «Первороссиянах» очевидны. Их обходят, стараясь «спасти» положение. Такова была наша жизнь. Уязвимой была не столько тема трагической гибели коммунаров и их мечты (она-то обсуждалась), сколько тема гибели и красных, и белых. Некоторые считали, что мощь революции и ее завоевания вытеснили жанр трагедии из нашего искусства и, если даже она появляется, ее нужно «детрагедизировать», по мнению других, это было совершенно неправомерно.
<…>
Сергей Орлов назвал фильм «первым высокотрагедийным киновоплощением»5, но судьба фильма была на волоске. В нем человеческая индивидуальность показывалась как часть коллективного не только через группу коммунаров, но и через староверов. Заседание старцев, произносивших клятву мщения, композиционно напоминало Тайную вечерю: человек подменяет собой Истину, считая себя самой Истиной, и совершает злодеяние. Эта притча рассказывалась параллельно с клятвенным пением коммунарами «Интернационала». «Весь мир насилья мы разрушим до основанья…»—звучали голоса на фоне пылающего огня и наковальни с молотом. <…>
Мировоззрение авторов удивляет зрелостью. В нем нет нигилизма 90-х годов, но есть позиция человеческая, философская, художественная. Многие недоумевали: почему белые или черные фигуры вдруг становятся красными, а красные—белыми или черными? Наше сознание тогда привыкло к ходульным образам. Искали знакомой плакатной трактовки, а художник языком живописи проводил все ту же мысль: в Гражданской войне нет победителей (ведь словесно это не выражается: текста в «Первороссиянах» крайне мало).
Конечно же, на подобных заседаниях, тем более на обсуждении работы, посвященной юбилею революции, обязательно присутствовали «искусствоведы в штатском», от чьих наблюдений и выводов зависела судьба произведения и его авторов. Ведь совсем недавно (в 1964 году) расправились с поэтом Иосифом Бродским, только-только (в 1966 году) отгремел показательный процесс над Синявским и Даниэлем. Идеологи лишь тем и занимались, что выискивали крамолу среди интеллигенции. Поэтому до конца никто и не высказывался: нужно было не дать «убить» талантливое, новое явление в искусстве. Защитники фильма пытались лавировать, и в какой-то мере это получилось.
«Оценка была высокой, работа признана новаторской»6,—пишет в своих воспоминаниях тогдашний главный редактор Второго творческого объединения Дмитрий Молдавский, имея в виду худсовет студии, решением которого дело не ограничивалось. Далее мы читаем: «Трагизм в наше время, да еще все это как-то сложно, малопонятно <…>. На просмотре был этакий начальственный тов. А., помятый вьюнош средних лет <…>. Выступить он не выступил, но сбегать к начальству успел…
И пошло! И пошло! Ежедневные обсуждения в “узком кругу” и в “очень узком кругу”. И вертлявая болтовня людей, напуганных страшным примером бескорыстия и честности, и просто трусов, и неумение признаться в самом простом: “я этого не понял!”—все здесь было… Потом мы повезли фильм в обком <…>. Было решено—факт <…> беспрецедентный—вынести обсуждение фильма на партактив города! <…>
Товарищ, подводящий итоги, сказал, что <…> важно только, чтобы людям не пришла мысль о том, что уж слишком были велики потери—больше, чем победы и радости <…>»7.
Вообще, человек без собственных мыслей тогда особо ценился, и не дай Бог было разбудить мысль. Поэтому создателей подозревали в антиреволюционности. Секретарь Ленинградского обкома партии Толстиков хотел запретить фильм, но после обсуждения в Госкино его все-таки решили выпустить, правда, лишь в количестве четырех или шести копий на всю страну. Новизна и сложность формы все же отвлекли блюстителей нравов, несколько запутали их, и скрытый смысл картины до конца не был расшифрован. В июле 1967 года сценарно-редакторская коллегия Главного управления художественной кинематографии заключила: «В своем поиске режиссер-постановщик А.Иванов отталкивался от народных зрелищ первых послереволюционных лет, от сценических и кинорешений того времени, от агитплакатов. Талантливая работа художника и оператора помогла найти стилистику <…>, вместе с тем избранная авторами стилистика затрудняет восприятие <…> идеи и в ряде мест делает фильм нарочито усложненным <…>, а также может вызвать неточное эмоциональное впечатление от безысходной жертвенности первых строителей коммуны <…>»8. Были предложены поправки, и А.Г.Иванов внес изменения. Решение о 4–6 копиях, конечно же, было ханжеским, рассчитанным на то, что до широкого зрителя фильм не дойдет вообще (четыре из шести копий отправлялись по инстанциям).
Премьера все же состоялась в Ленинграде, в кинотеатре «Колизей», но вскоре «Первороссияне» были сняты с экрана, хотя кое-кто успел их посмотреть в других городах, и даже вышло несколько рецензий. Газета «Горьковский рабочий» писала: «“Первороссияне”—необычный фильм. И необычность эта прежде всего в его жанровом характере. Это трагедия <…>, реквием павшим. Это произведение из того же ряда символических воплощений облика революции, что и “Двенадцать” Блока, “Большевик” Кустодиева <…>. “Первороссияне” в нашем искусстве займут свое достойное место»9.
Ленинградский обком партии дал указание прессе о картине не писать. Поскольку фильм был посвящен революции, его на всякий случай вы-пустили и на всякий случай закрыли. Вскоре осталась только одна копия, остальные были смыты, и картина действительно заняла «достойное место» на «кладбище фильмов» в Белых Столбах. Формально фильм власти как бы приняли, но, по существу, он был уничтожен. Способы расправы с неугодными произведениями искусства были разными.
После всего случившегося один из самых стойких поклонников картины академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в знак протеста вышел из состава художественного совета студии.
Оператору Эдуарду Розовскому чудом удалось спасти одну часть фильма, когда он случайно обнаружил в затопленном водой подвале «Ленфильма» коробки с пленкой «Первороссиян».
Судьба «Первороссиян» и по сей день остается неизвестной и запутанной. Фильм так и не получил права на полноценную жизнь. Хотя в 1987 году он был показан в Ленинградском Доме кино (в присутствии 10 человек), а в 1993 году даже на I Международном кинофестивале в Санкт-Петербурге под рубрикой «Неизвестный “Ленфильм”». Фильм представляли как «интересный прежде всего экспериментами в области киноязыка, той изощренностью, которая характеризует противоречия формы и содержания в несвободном от цензуры искусстве»10. Характеристика, как нам кажется, верна лишь отчасти. Феномен ситуации в 60-е годы был пусть в относительном, но прорыве фильма сквозь цензуру при его новой форме и новом содержании. Именно эти качества отмечались многими на памятном худсовете 4 апреля 1967 года, в том числе и старейшим режиссером «Ленфильма» Надеждой Николаевной Кошеверовой: «Это настоящее трагическое, трагедийное произведение в условной форме. <…> С точки зрения идейной, картина не вызывает <…> никаких сомнений. Сегодня это история, которую мы должны знать»11.
В какой-то момент это действительно была общая победа. Фильм не только возвращал нам нашу историю после стольких лет ее официального искажения, но и утверждал право художника на субъективное ее понимание. К сожалению, в 1993 году, когда состоялся кинофестиваль, послеперестроечный нигилизм, видимо, несколько исказил сознание кинокритиков перекосом уже в противоположную сторону. Ведь еще в 1967 году по настоянию Госкино А.Г.Ивановым были внесены изменения, которые, конечно, нарушили художественную целостность картины, что позже дезориентировало критиков. Отделить же зерно от плевел оказалось невозможным: предыстория мало кому была известна. А жаль! В совершенно новой художественно-образной форме, взрывавшей общепринятые традиции кинематографа, фильм впервые громко озвучил пугавшую коммунистов мысль о революции как общенациональной трагедии. Ведь «разминирована» эта тема была лишь в перестроечное время.
Так еще один «выход в свет» «Первороссиян» снова завершился возвращением их единственной копии в Белые Столбы. И после фестиваля никто не поинтересовался: что же случилось тогда, в 1967 году, почему фильм, хотя и условно, но все-таки был принят, а зритель его практически не увидел.
Да простит мне читатель столь долгий рассказ, но описываемые обстоятельства, связанные с «Первороссиянами», имеют прямое отношение к творческой судьбе художника Михаила Щеглова, занимают в ней важное место и далеко не заканчиваются официальной версией появления этого произведения.
***
Александр Гаврилович Иванов в своей книге «Полвека в кино» (1973 г.) в перечне творческой группы «Первороссиян» вообще не упоминает имени основного постановщика фильма Евгения Шифферса, хотя, характеризуя работу группы при сдаче фильма на художественном совете в апреле 1967 года, он отмечал отличную работу в первую очередь режиссера Шифферса.
Дмитрий Молдавский в своих воспоминаниях (1989 г.) пишет о нем тоже лишь следующее, возможно, избегая громоздких объяснении или сохраняя «производственную тайну»: «Ставил фильм он [А.Г.Иванов12] вместе с театральным режиссером Евгением Шифферсом, человеком ярким, с острым ощущением трагедии как жанра»13, и это все, а ведь Д.М.Молдавский был в курсе всех подробностей создания фильма на всех этапах.
Давно уже нет А.Иванова, ушли из жизни Е.Шифферс, М.Щеглов и Д.Молдавский—все меньше остается живых свидетелей. Наверное, пришло время рассказать о том, о чем невольные «виновники» рассказать не успели, а те, кто знали эту историю лишь по официальной версии, должны узнать, как все происходило на самом деле.
Картина оказалась принята Госкино при условии, что конец ее будет изменен, но Шифферс отказался менять что-либо, а в ином случае настаивал на снятии в титрах своего имени14. О концовке спорили еще на худсовете, и спор был принципиально важным. Предпоследний кадр представлял немую сцену: в бескрайнем снежном поле после разгрома коммуны шли навстречу и замирали в столбняке друг перед другом глава староверов Феодосий, сокрушенный смертью своей дочери, и чудом уцелевшая коммунарка Люба Гремякина (Лариса Данилина) с сыном. Феодосий (Иван Краско) стоял по колени в снегу, без шапки, судорожно прижимая к груди красный платок дочери. Она была только что убита его же казаками за то, что предупредила коммунаров о готовящемся погроме. А Люба, прижав к себе сына,глядела на старика с ужасом и состраданием. Стоп-кадр длился и длился, и вдруг взрывался: по белой снежной пустыне под колокольный звон в бешеном галопе несся красный дикий конь и «исчезал в брызгах снега, оставив нам белое пятно. Звук обрывался»15. И из той точки, куда исчез конь, выплывали, как из белой бездны, строгие буквы, красные буквы: «Конец».
А.Иванов, спасая, как он искренне считал, работу, удовлетворил требование властей и ввел свою концовку—памятник Ленину. Абсолютный диссонанс. Но по логике, а не по художественным принципам, памятник почти вписался и как бы замкнул цепь «бронзовых истуканов», которые нависалигрозно над происходящим с первых кадров пролога в виде монументов царей. Ленин в исполнении артиста Честнокова появлялся в фильме дважды и каждый раз вызывал странное чувство: грим его казался плохим, вождь явно выглядел крашеным. От моих вопросов по этому поводу М.Щеглов отмахивался и говорил: «Ты не понимаешь, так надо». Е.Шифферс тоже не отвечал. Только спустя несколько лет, когда удалось посмотреть «Первороссиян», выписав их по случаю очередной работы М.Щеглова на «Ленфильме» (иначе их нельзя было увидеть), я поняла, что он вкладывал в свое «так надо». Все лица героев менялись в цвете по ходу фильма в соответствии с эмоциональным состоянием, что воспринималось органично в стилистике фильма. А вождь выглядел гипсовым, с накладной бородой, и это не было небрежностью гримера. Не случайно начальство требовало сокращения количества этих «неудачных кадров».
Е.Шифферс был человеком твердым, принципиальным, и он упорно отказывался от внесения любых изменений—честолюбие и желание угодить чиновникам не мучили его. Он блестяще выполнил всю работу постановщика, спокойно приняв роль второго режиссера, и чужеродные вторжения отвергал. Официально же прав у него на это не было. Как сложилась эта двусмысленная ситуация, с чего все началось?
В конце 1965 года А.Г.Иванов, известный кинорежиссер, художественный руководитель Второго творческого объединения «Ленфильма», народный артист СССР, по рекомендации директора объединения М.Рысса, пригласил Е.Шифферса на совместную работу. Шифферс согласился, но сказал, что будет работать только с художником М.Щегловым и только при условии свободы действий. Надо сказать, что оба они были людьми сугубо театральными: небольшой опыт работы в кино был лишь у М.Щеглова16. Невероятно, но они получили заказ и свободу действий. Условия были заманчивыми, тем более что Шифферс и Щеглов давно были дружны и увлечены творчеством друг друга. У них были общие планы, их очень привлекала возможность совместной деятельности. Как раз в этот момент они завершали свою работу в Ленинградском Малом драматическом театре над пьесой Брехта «Что тот солдат, что этот». Получился интересный спектакль: философский, острый.
Евгений Шифферс в первой половине 60-х годов закончил режиссерское отделение Ленинградского театрального института: на его счету уже в студенческие годы был ряд новаторских спектаклей17. «На него ходили», в него верили. Им восхищались коллеги, публика, и его не любили власти. Чтобы работать с ним, актеры оставляли свои благополучные театры. Начальникам от культуры это казалось подозрительным.
Работать, общаться с Шифферсом было в высшей степени интересно. «Я менял алфавит—набор театральных приемов… именно алфавит,—говорил он позже.—Ведь в то время все только начиналось». Мечтали о своем театре, который вполне мог родиться в те годы в Ленинграде, как, например, театр Любимова в Москве, что всех и вдохновляло. Но наш город—«колыбель революции»—всегда жил в ином режиме, нежели столица.
Личность Е.Шифферса, ученика Георгия Александровича Товстоногова, конфликтовавшего со своим учителем, признанным мэтром советской режиссуры, одних завораживала и восхищала, других возмущала: уж слишком уверен в себе, дерзок и не сдержан на язык был недавний ученик. А он действительно был личностью необыкновенной: одаренный режиссер, остро чувствовавший форму, умный, образованный человек с необычной судьбой и взрывным темпераментом. Е.Шифферс обладал незаурядным философским даром, немецкой пунктуальностью и уникальной работоспособностью. В 1956 году после военного училища он неожиданно попал с нашими войсками в Венгрию, был ранен, после чего демобилизован. Вынужденное участие в венгерских событиях, видимо, укрепило в нем оппозиционные настроения. В театральном институте его бунтарства побаивались. Мыслил он свободно, ясно, образно. О политике высказывался безоглядно и громко: «Сталин—воинствующий мещанин, а Ленин—стратег и тактик. Помните его лозунг сначала: “Вся власть Учредительному собранию!”, а потом: “Никакой поддержки Учредительному собранию!”? Это великий режиссер революции»18,—запальчиво говорил он, выступая в 1965 году в кафе «Ровесник», где собиралась творческая молодежь. Ему выкрикивал с места гражданин «стукачевского вида»: «Нам стыдно вас слушать!» <…> Шифферс парировал мгновенно: «Это очень хорошо, что именно вам стыдно меня слушать»19.
Личность Евгения Шифферса не умещалась ни в какие рамки, которые определяли тогда всю нашу жизнь. Это и послужило поводом для начавшейся травли: театры закрыли перед ним свои двери. В первом номере журнала «Театр» в 1966 году была напечатана явно заказная статья Е.Алексеевой «Без скидки на возраст»: «Группа Шифферса ниспровергает все—от работников управления культуры до большинства советских драматургов, режиссеров <…>. Некоторая часть творческой молодежи поддерживает Шифферса за его “смелость”, проявляющуюся, как правило, в неуважительных, а порою и просто грубых оценках различных явлений современного искусства» и т.д. и т.п.
Своей жене Шифферс велел держать для него наготове котомку с парой белья и теплыми носками. Но наша действительность замечательна своими неожиданностями. Как раз в это время Александр Гаврилович Иванов пригласил именно Шифферса—человека с опасной, скандальной репутацией—на работу в кино.
Щеглова и Шифферса еще больше сблизили открывшиеся творческие возможности. Их взаимную сердечность питал и схожий жизненный опыт, и близкие интересы, и взгляды, и вера друг в друга, и широко распахнутые на мир глаза, с юмором, иронией воспринимавшие нашу абсурдистскую действительность. И того и другого отличали огромное жизнелюбие и творческая жажда. Предложение снимать кино о революции было странным для обоих, но они получили возможность работать в кино, высказаться, а остаться собой можно, работая с любым материалом, в этом у них со-мнений не было.
Сценарий Ольги Берггольц, готовившийся к постановке, к тому времени прошел долгий путь обсуждения во всех инстанциях и на «Ленфильме», но он был громоздким, и никто из тех режиссеров, которым он предлагался, не знал, как привести его к кинематографическому знаменателю. И вот, наконец, по «Ленфильму» был издан приказ: «Приступить к разработке режиссерского сценария <…> режиссеру-постановщику Иванову А.Г., оператору Назарову А.М., художнику-постановщику Щеглову М.С., 2-му режиссеру Шифферсу Е.Л., редактору Тарсановой И.Н.»20.
Вот что пишет о режиссере-постановщике А.Г.Иванове Д.Молдавский: «Александр Иванов, <…> благороднейший человек <…>.
Бескорыстие и убежденность первых коммунаров в том, что будущее достижимо немедленно, сейчас же, было понятно ему как никому»21. Он пришел в кинематограф в конце 20-х годов. За плечами его была Первая мировая война, фронты Гражданской войны—путь от рядового до красного комиссара. Его фильмы «Звезда» (1949 г.), «Солдаты» (1956 г.), «Поднятаяцелина» (1961 г.) стали советской классикой. «Для режиссера А.Иванова фильм “Первороссияне”— взлет в область неведомого»22,—справедливо отмечала газета «Горьковский рабочий». «В предыдущих своих картинах он показывал войну, намеренно подчеркивая будничность подвига <…>. В “Первороссиянах” режиссер обратился к жанру, в котором больших успехов добился разве что А.Довженко,—к жанру поэтического и символического кинематографа»23. То, что «Первороссияне» выпадают из обоймы работ Александра Гавриловича, было очевидно. Сам же он ни разу не обмолвился в своих воспоминаниях об истинной истории рождения фильма. Щеглов и Шифферс тоже молчали. Оставаясь верными изначальному договору, вопрос авторства они никогда не поднимали.
О времени, когда готовился фильм, выразительно (правда, уже в 90-е годы) пишет В.Фомин, но, к сожалению, он не упоминает «Первороссиян», хотя его характеристика эпохи именно к этому фильму имеет прямое отношение: «В 1967 году предстояло пышно отпраздновать юбилей большевистской революции. К всенародному празднику начали готовиться заранее <…>. Приступы юбилейной горячки колотили комитетских столоначальников. Они прямо-таки из кожи лезли, чтобы украсить планы новыми названиями кинотворений»24. Всем известно, что революционная тема в эти годы была обязательна для всех театров и киностудий, хотя к тому времени она уже дискредитировала себя многими спектаклями и кинолентами. А.Иванов неоднократно высказывался, что не хочет продолжать эту дурную бесконечность: требовался свежий, современный взгляд на нашу историю. Ему самому, видимо, уже трудно было что-либо изменить, но изменений требовала жизнь, и он рискнул: так на «Ленфильме» появились молодые Шифферс и Щеглов. В те годы для официального лица это был поступок, если вдобавок вспомнить, как стойко художественный руководитель Второго творческого объединения вел себя на протяжении всей их совместной работы.
Написание режиссерского сценария он отдал на откуп молодым, которые с энтузиазмом принялись за дело. Они работали быстро, вместе фантазируя и помогая друг другу выразить задуманное. Художник мыслил цветом и тут же набрасывал эскизы. Уж в сценарии определялись все принципиально новые способы изобразительности. Щеглов убежденно высказывал свое отношение к кинематографу как к явлению изначально визуальному, изобразительному и театральному. Это совершенно совпадало с пониманием, целью и желанием Шифферса делать не психологический, не игровой, а условный (без бытовых подробностей) поэтический фильм с ограничением динамики, с фронтальными мизансценами. И все это уже былов сценарии, на обложке которого имя Шифферса не значится. Ориентиром для режиссера в большой степени стали традиции театра Мейерхольда, хотя тогда представления о нем были частично легендарными.
Шифферс и Щеглов понимали друг друга с полуслова: они как будто превратились в единый творческий организм. Это походило на чудо. Сквозь дурашливое ерничанье и подтрунивание друг над другом просвечивали совершенное доверие и нежность. Не припомню споров, противоречий—уникальная ситуация. Почти весь период совместного творчества оказался для многих участников счастливым, и автору этих строк довелось быть свидетелем тому. Только из подобного союза и может родиться нечто стоящее. Читаю сценарий, и всплывают отодвинутые временем картины: «Ровное поле, и посередине этого ровного и спокойного поля—четкий квадрат <…>. Темные фигуры людей несут черные гробы на фоне красного неба; черные фигуры несут красные гробы на фоне белого неба <…>. Квадрат красного неба <…>. Успокоились все. Белое поле, черный квадрат засыпанной могилы, черные силуэты часовых у красных костров»25. Щеглов делал эскизы-образы, образы-изображения. В их ритмах звучал реквием. Реквием продолжался и в кадрах фильма. Они строились на едином дыхании, на медленном, тягучем темпе, на ритмических повторах. В сценарии запечатлены режиссерская ясность, объемность образов и их цветовое видение художником. В главе «Пианино»: «Голубой влажный булыжник, темно-синие группы по нескольку человек—это отъезжающие. Белая с синим гамма»26. И в самом начале сценария—заявка: «Нам необходимо будет подкрашивать натуру, иметь несколько цветовых вариантов костюмов одного и того же покроя»27. Цельность замысла очевидна. Задачи режиссера и художника неразделимы.
Окончание следует...
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:28 | Сообщение # 9 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| Лариса ЛОНГИНА-СОКОЛОВА
РАСПЯТЫЙ ШУТ. Глава из книги
ПО СЛЕДУ АВАНГАРДНОГО ФИЛЬМА «ПЕРВОРОССИЯНЕ»
(окончание)
14 апреля 1966 года состоялся художественный совет по обсуждению режиссерского сценария. Многие отмечали, что в зале сразу сложилась какая-то выпадающая из общих правил манера обсуждения—соучастие и сочувствие. Целостность, ясность образов, четко сформулированные задачи и способы их достижения, немногословие давали возможность изначально почувствовать монолитность замысла и необычность принципов. Представляя сценарий, Александр Гаврилович Иванов старался убедить Ольгу Берггольц в том, что предлагаемая запись сценария не есть отрицание созданного литератором, а лишь попытка серьезного перевода материала автора на иной язык. Она не соглашалась. Шла битва. Иванов упрямо продолжал: «Мы решили остановиться на форме фильма-исследования, исследования нравственных, этических сторон революции и борьбы <…>. Мы искали и некую легендарную основу, что будет проводиться широким форматом, спокойными кадрами, малой динамичностью, и, скорее, изобразительностью, близкой немому кино <…>»28. Александр Гаврилович оказался уверенным и надежным защитником всего, что задумывалось Е.Шифферсом и М.Щегловым. Ни на данном этапе их совместного пути, ни на всех последующих он ни разу не предал того, что делалось: он был искренне увлечен. Ему, бывшему красному командиру, реальному участнику революции, видимо, претила всеобщая ложь в жизни, в искусстве и импонировали необузданная творческая смелость, свобода мысли и бескомпромиссность второго режиссера и художника (позже, при сдаче фильма он дал высочайшую оценку работе того и другого). Он рыцарски прикрывал их на каждом этапе своим именем, положением, званием. У многих тогда это новаторство вызывало большие опасения, в том числе сочетание монументальности, патетики и иконописности форм. «Появление на студии Шифферса и Щеглова перевернуло весь “Ленфильм”»,—говорил Юрий Медведев, бывший редактор Второго творческого объединения, на вечере памяти М.Щеглова в 1998 году в Доме кино.
20 июня 1966 года уже состоялись просмотр, обсуждение эскизов и актерских проб. Настроение сопричастности, радости от встречи с чем-то значительным ощущалось в каждом выступлении. Ефим Добин признавался: «Должен сказать <…>, я испытал волнение с начала просмотра проб, когда я увидел исключительно талантливое произведение <…>, прекрасное цветовое решение бескомпромиссного пути <…>. Художник избрал здесь путь <…> романтический. Эта художественная эстетическая последовательность радует меня <…> радует предвкушение замечательного художественного произведения»29.
Дмитрий Молдавский сумел в еще не сложившемся до конца материале увидеть определенную новую эстетику. Он особо отметил в эскизах Щеглова «…введение в кино компонента цвета. Цвет здесь играет роль открытия <…>. Это поэтика кино так же, как в живописи; от литературного кинематограф шагнул в кинематограф живописный <…>. Я верю, что этот эксперимент будет этапом в истории большого цветного кино»30,—говорил он. Эскизы к фильму вызвали настоящий фурор, вся студия сбежалась их смотреть.
Оператор Евгений Шапиро, опытный, знающий кинематографист, рассматривая их, радовался, что «кинематограф получил цвет на вооружение. Это грандиозный компонент <…>. Это не фазовая работа, это точка зрения, мысль, идея, решение»31. Его выступление было подхвачено художником Енеем: «Мне нравится общее решение. Все это жестко, совершенно четко»32. И вместе с тем привычка к натурному кинематографу у многих рождала опасения: «Как же все это будет выглядеть, когда встанет вопрос о натуре? <…>. Эскизы прекрасны, не вижу, как они будут осуществлены <…>, если фильм не будет сниматься в павильонах?»33—волновался заместитель главного редактора студии Иннокентий Иннокентьевич Гомелло. Оператор Аполлинарий Дудко опасался, что «чередование цветного, яркого, символического с реальной прозой может вызвать неожиданные столкновения»34.
Волнения окружающих были оправданными: действительно, приближался выезд киноэкспедиции в Теберду, и никому в голову тогда не приходило, что этот небольшого роста, немногословный молодой человек—главный художник фильма—задумал подчинить эстетическому замыслу картины кавказскую природу, что он из брандспойта сам будет красить горы, землю и коней, превращая этот привычный глазу мир в сложный поток человеческих переживаний, связей и ассоциаций. Он сумеет великолепно и неожиданно сочетать несочетаемое. Его дар театрального живописца, умение отстраниться от обыденного, смело приложенные к кинематографу, как скажут потом кинематографисты, откроют новую страницу в истории нашего кино.
На худсовете же говорили много, страстно, произносили слова, эпитеты, которыми обычно пользуются крайне редко, и за ними, как правило,стояло желание помочь авторам этого непростого замысла. Геннадий Полока считал, что группа поставила «грандиозные задачи», говорил, что он «преклоняется перед людьми, которые взялись за эту картину»35. «Обобщение, укрупненное решение фильма <…>—такой поиск важен как критерий неабстрактного новаторства. Это важное обстоятельство в работе <…> всей студии»36,—поддерживал поиски группы и редактор «Ленфильма» Михаил Кураев. Худсовет шел три часа!
В июле начались съемки в Теберде. Шифферс собрал молодых, талантливых актеров. Приехали Влад Заманский, Юлиан Панич, Иван Краско, Ольга Волкова, Лариса Данилина, Володя Маслов, Наталья Климова, Геннадий Нилов, Инна Кондратьева. С удовольствием общались, с удовольствием жили в туристских домиках на берегу бурной речки Теберды. Днем шла работа на съемочной площадке. На глазах менялся привычный кавказский пейзаж. Художник то золотил, то покрывал красным скалы, то менял масти коней; дома каждый раз тоже обретали новый цвет, становясь то красными, то серебристыми, то черными; то же происходило с лицами и костюмами героев, в зависимости от задачи. Такого еще никто не видывал. Было не только чрезвычайно интересно: все чувствовали себя соучастниками этой талантливой дерзости.
Сегодня компьютер открыл огромные возможности перед художниками: достаточно нажать кнопку. Но вдохновение, которое осталось в этой работе Михаила Щеглова, компьютеру недоступно. «И вот, заполнив кадры, переливаются, кажется, через их края золотые, янтарно-медовые тона, их движущиеся вариации в главе “Воскресенье” лепят крупным планом человеческое лицо, закаменевшее в последнем и почти нечеловеческом напряжении… и трагедийное цветовое трезвучие черного, красного и белого живет в “Кострах” в драматическом борении своих цветовых тем, оно развернуто в сложно построенную симфонию цвета. Здесь красные дома выстроились в ряд по красной горе, здесь кроваво рдеет красный валун <…>, здесь красные женщины вяжут красно-золотые снопы <…>»37.
М.Щеглов умел работать, о чем воодушевленно-восторженно говорил и А.Иванов: «За сорок лет работы у меня были разные художники. И все хорошие, интересные. Но этот молодой человек покорил меня своей влюбленностью в материал картины, глубиной проникновения в него, желанием не просто выполнить свою профессиональную функцию, а страстным желанием помочь режиссеру во всех, даже мельчайших, вопросах <…>. Он был неутомим в своих поисках и предложениях <…>. Всюду и везде мы видели Мишу Щеглова. Его умение работать с людьми дало прекрасные результаты <…>. Нет ни одного кадра, за исключением панорамных, которые бы не подвергались обработке Щеглова»38.
А в Теберде на веранде туристского домика Шифферс и Щеглов каждый вечер готовились к очередному съемочному броску: вырабатывался детальный план. Они тщательно обсуждали, что нужно делать, и художник тут же на листах рабочего сценария выполнял подробную раскадровку. Шифферс внимательно всматривался, наклонив немного набок свою большую голову, следил за каждым движением карандаша, потом, всплеснув руками, вскакивал: «Мишуня, потрясающе, именно это и нужно!»—и заключал в объятиясчастливого Щеглова. Так был нарисован весь фильм целиком. Было сделано 602 рисунка. Ровно столько же кадров было отснято39. На съемочной площадке царил абсолютный порядок. Съемки проходили невероятно организованно и быстро, что отмечали все опытные знатоки кинематографической кухни. Звучал только голос второго режиссера Шифферса. Он стоял на деревянном помосте и через мегафон подавал команды, требуя от участников четкого выполнения задуманного. Коренастый, небольшого роста, собранный как пружина, он напоминал Бонапарта, окруженного верными ему войсками. Его мощная энергетика действовала гипнотически (мне не очень нравится такое словосочетание, но оно соответствует этой личности).
Щеглов помогал настроить камеру оператору Шапиро, чтобы сцена, нарисованная им накануне, была снята максимально точно. Он не отходил от камеры: весь фильм так и снимался в полном соответствии с его эскизами, и все получилось, несмотря на опасения, предостережения и возражения окружающих.
Актеры играли с наслаждением, хотя приемы, связанные с традициями Мейерхольда, к которым обращен был Шифферс, не позволяли им показать свои возможности: они подчинялись целому—им было интересно.
А.Г.Иванов был надежным покровителем всего происходящего. Он не вмешивался в процесс. Это был деликатный, мужественный, по-настоящему благородный человек, который взял дерзких выдумщиков под свое крыло.
Стояло жаркое южное лето. Он сидел под огромным холщовым зонтом, наблюдая за всем происходящим с воодушевлением и вниманием. Было очевидно, что ему нравятся эти «сумасшедшие» молодые люди, которые совсем по-новому видят, мыслят и строят всю систему образов. Видимо, они пробуждали в нем сильные, искренние чувства, пережитые в молодости. Он не мешал их поискам.
***
Итак, фильм был снят и принят только благодаря Александру Гавриловичу Иванову, но задумывал и снимал его Евгений Шифферс.
Неожиданным получился этот союз столь разных по духу личностей и художников. Именно по этой причине критики и не узнавали почерка А.Иванова. Видимо, не легко было ему, режиссеру с именем, пойти на такой компромисс. Трудно сказать, понимал ли он до конца, что Шифферс и Щеглов заложили в фильм. Возможно, понимал, а может быть, и не совсем, но тем ценнее его позиция: принять непонятное такому человеку еще труднее. А он принял и дал прорасти живому ростку: не допустил, чтобы его затоптали. Память о бескорыстных борцах тех лет стойко жила в нем, и ему, видимо, было интересно, что нынешние думают об этом.
И вот крупным планом, подобно фрескам, на широком экране застывают подобные иконописным лики коммунаров, дающих клятву на могилах Марсова поля: лицо Любы Гремякиной на багровом фоне, белое лицо Василия Гремякина на белом фоне, красно-золотое лицо Алеши на красном фоне неба… Цветовой ритм лиц героев, сменяющих друг друга, ритм грозно нависающих над землей скульптур монархов российских, музыкальный ритм чередуются с торжественным ритмом похоронных колонн.
Немыслимо по тем временам, но именно похоронами начинался фильм о революции. «Черный открытый рот могилы <…>. Мы смотрим на этот квадрат; в кадр входят с четырех сторон, к четырем углам черного квадрата, как продолжение его диагоналей черные точки людей с красными высоко поднятыми гробами. Люди несут красные гробы по четыре в ряд на фоне темного неба. Они идут прямо на нас <…>. Мы видим их в рост, потом по мере приближения к нам лица перекрывают камеру»40. «Освещенные красным люди несут черные гробы на фоне белого неба. Круговая панорама, со все убыстряющимся темпом, которая видит все стороны красно-белого движения ритуала похорон. Быстрый темп превращает кадр в черно-красную полосу— смазку»41. Кадры меняются. Долгая неподвижность, и снова усиливается темпо-ритм движения. Напряженно-торжественно звучит хорал а’capella. Ритм лиц, крупным планом меняющихся в цвете, предельно медленно идущих фигур, ритм музыки и цвета. Их повторы долги, кажется, слишком долги. Но нет! Так же медленно, постепенно душа зрителя приоткрывается и впускает в себя все горе, пронзительную боль, о которых подчеркнуто настойчиво рассказывают создатели фильма. Они взывают к каждому, дают сердцу раскрыться, и сердце замирает: что же это? Трагедия!
В конце 60-х мы довольно ясно представляли, что тогда, в 17-м, да и в 20-е годы, было только началом—трагедию переживали наши деды, затем отцы, и, наконец, наше поколение испытало ее на себе. Все уже читали Солженицына, по рукам ходил Гроссман, письма Сахарова… Гробы, гробы, нескончаемые похороны, бесконечный реквием по погибшим—это итог, обобщение. И отсюда «…квадрат красного неба, который закрывается черным днищем гроба. Черный экран. И разрывая его, протестуя»42, поют женские голоса. «Потом тишина…»43
«Красные и черные гробы напоминали бруски расплавленного металла, <…> алое знамя первороссиян <…> пылало на фоне раскаленного металлического потока»44. Шла мистерия, эмоциональный накал которой был почти невыносим. Подобного решения этой темы зритель в то время не ждал.
На экране литературная поэма обрела киноязык. Он оказался нов и неожидан. Не стоит забывать, что русский авангард времен революции был тогда запрещен, а авангард второй волны только зарождался, и зритель не был подготовлен к восприятию новой эстетики фильма. Сейчас это, наверное, назвали бы концептуальным искусством. Кинематограф, минуя внешне узнаваемые формы, смело вступил в диалог с глубинной древнегреческой, древнерусской традицией и с искусством предреволюционной и революционной России, не только наполненным предчувствиями, но и отражавшим духовный опыт, предвещавший приближение гибельных сил.
Тогда в нашем искусстве еще не осмеливались на перекличку с «Черным квадратом»45, отражавшим опыт смерти, через которую неминуемо проходит каждый в познании истины. Черный квадрат, плавающий в белом световом пространстве,—образ смерти, погруженной в недра жизни,—был бесстрашным рассказом о несказанном, о том, что лежит в основе любого религиозного сознания, в основе борьбы материального и духовного. Возможно, поэтому работу Малевича называют современной иконой. Русский символизм, перелившийся к 10-м годам XX века в беспредметность изобразительности, просвечивает все же сквозь ее безусловную знаковость. И это оказалось—осознанно или неосознанно—близко создателям «Первороссиян». Тема смерти, возможная в советском искусстве лишь в ура-патриотическом плане, здесь обрела образ жертвенной ритуальности как неотъемлемой части новой, «коммунистической религии». Хочу заметить, что Малевича в годы советской действительности знали немногие: формотворчество пресекалось. Поэтому и удивлял откуда-то взявшийся геометризм в «Первороссиянах». Чиновники суетились, не понимая до конца, что их раздражает, посвященные молчали, а авторы фильма, наверное, на это и рассчитывали.
В 60-е годы тема смерти в нашем сознании приобрела уже конкретный и острый смысл. Стало известно, хотя и приблизительно, о многомиллионных жертвах в период революции и в сталинское время, что постепенно отрезвляло общество. Тем не менее, мысль о том, что революцию задумывали поэты, совершали герои, а пользовались ею подлецы, тогда еще была искренней. Через весь фильм проходит тема героев-романтиков, способных положить свою жизнь за новую веру. Конечно, во всем этом присутствует противоречивость, и полностью уйти от нее тогда не удалось, да и канва поэмы держала.
Неожиданная и покоряющая синевой вторая глава («Пианино») своим символизмом передает настроение наивной веры в сказку и щемящей тоски по ней человека, не ведающего страшного конца ее.
«Издалека цокает к нам лошадка, черно-синяя, стройная… В кадре в ослепительно-голубом свете—сказочное пианино…»46 Его привез старый еврей-настройщик в подарок отъезжающим. Зачем? Непонятно: ведь они едут неведомо куда. Никаких принятых в таких фильмах гармошек, никакого залихватского пения, ритуальных танцев вприсядку среди провожающих, никакой суеты. Шифферс последовательно держался этого принципа. Внешне спокойное ожидание. И звучит наивно, немного театрально мелодия менуэта, под который синий поезд увозит коммунаров со знаменем раскаленного цвета. И будет стоять пианино в открытом поле на Алтае, пока строится поселок, и будет отзываться всеми струнами на происходящее, пока не разрушат коммуну. А когда рухнет жизнь ее, подойдет к пианино тетя Катя (И.Кондратьева), замахнется на него огромным камнем… и стон разорванных струн взорвет напряженную тишину.
Если поэты-герои и были повинны в случившемся, то они заплатили за свои заблуждения своими же жизнями. Уверенность в том, что это была искупительная неизбежная жертва, заставила авторов искать поэтический язык, символические образы и идти именно по пути трагедийному.
Черный квадрат могилы, черный квадрат неба, черный квадрат, в который превращается сожженное золотое хлебное поле: разве могли быть случайны эта перекличка и подобные повторы?!
А рядом с темой гибели через весь фильм проходит и тема надежды. Она начинается с заснеженной белизны Марсова поля, с голубого поезда, продолжается в золотом квадрате созревшего хлеба и завершается снежным пространством, по которому несется огненного цвета норовистый конь. Ни «красных», ни «белых»—лишь белый снег, белый свет… надежда не умирает никогда, но… красный конь и красным написанное слово «Конец»…
Свет впервые присутствует на экране в самой структуре кадров, в цветовом решении их художником. Во многих случаях это достигалось Щегловым за счет отказа от линии горизонта; в интерьере—отсутствием стыка стены и пола. Таким образом, создавалось ощущение, что действие разворачивается как будто в ином измерении. Добиться такой выразительности даже технически было тогда очень трудно. Режиссер, художник, оператор, все члены группы работали на одном дыхании, чтобы не нарушить целостности образа. На этом фоне лица, фигуры, предметы приобретали весомую значимость, монументальность.
Сейчас этот прием (как эстетический) нередко используется даже телевидением, и он срабатывает. Но метафора, которой тогда добились Щеглов и Шифферс, захватывала не просто зрительным эффектом: она обладала философской глубиной, являясь важнейшим пластическим компонентом решения всего фильма. Главным оставался передний крупный план, а за ним—световое пространство без границ, которое стирало чувство времени, давая всему происходящему на экране силу обобщения, а зрителю— дистанцию. Одновременно при определенных мизансценах и цветовых соотношениях оно оказывалось плоскостью, на которой изображение превращалось во фресковую живопись. Через стоп-кадр «фреска» оживала. Движения героев или их статика, фронтальное расположение лиц и фигур естественно вливались в это условное пространство. Создавался эффект обратной перспективы.
Законы плоскостного изображения, свойственные монументальной живописи, составляли основу изобразительного принципа. Художник добился невозможного: плоскость экрана дышала, светилась. Иконописные золотые горы, локальные по цвету фигуры и предметы усиливали ее образную значимость.
Фильм снимали на натуре, но она была полностью преображена рукой художника. Оператор Шапиро своим мастерством и чуткостью помог ему решить сложнейшие задачи. Историческая отстраненность, показ событий из своего времени, а не из прошлого, изобразительная, театральная условность, внедренная в кинематографическую систему, ориентированную обычно на реалистическую «правду жизни», делали картину сложной для восприятия даже искушенного зрителя. Она заставляла мыслить, требовала сотворчества.
Мы уже стали забывать, что в 60-е годы культура «отпускалась» нам лишь избирательно и крошечными дозами. Даже на искусствоведческом факультете древнерусское искусство преподавали в совершенно изуродованном варианте, не говоря уже о живописи Малевича. Сегодня это кажется невероятным, но ведь и христианство было отсечено от нашей жизни.
Фильм обнажал спор двух вер. Это отметил еще при сдаче его эскизов редактор Юрий Медведев: «Здесь идет вера на веру»47. И решался спор не в пользу коммунаров, к которым создатели относились с симпатией и со-чувствием, но и не в пользу староверов. Те и другие одержимы идеей победы друг над другом. «Земля обетованная»—так называется одна из глав, но земля эта из божественно-прекрасной, золотой становится красной, а потом черной. Конечно, эта позиция выходит за рамки сюжета, но и тема революции в них не укладывается целиком. Гражданская война впервые на экране выглядела духовной катастрофой, трагедией всего народа в целом, независимо от цвета знамени, которому присягали, независимо от наших симпатий. Эта мысль проводилась, конечно, не впрямую. Режиссер, художник, композитор и оператор доносили ее новым языком, синтезирующим код, заложенный как в русском, так и в европейском искусстве. Возможно, это и позволило сказать одному из почитателей фильма, что он об истории всех народов.
И в том, что фильм тогда не дошел до зрителя, не донес до него эту концентрацию мысли,—результат активного вмешательства идеологической системы, и «Первороссияне» навсегда остались в Белых Столбах.
Способы изобразительности, открытые в кинематографе этим фильмом, к сожалению, оказались для его авторов погребенными. О фильме должны были забыть, и о нем забыли. А ведь поэты и кинематографисты называли картину первым цветовым фильмом в нашем кино. Они говорили, что «картина вызывает громадный интерес, вызывает целый ряд чрезвычайно интересных мыслей, причем не только по данному произведению, но мыслей, которые связаны с путями развития нашего искусства»48.
***
К сожалению, Шифферсу и Щеглову более не представилось счастливого случая снимать кино вместе. Вернее, когда такая возможность появилась (уже в 90-е годы), Щеглов был вынужден отказаться от нее из-за болезни, хотя их единственная совместная работа и была удивительным событием в развитии отечественного кинематографа 60-х годов. Киновед Дмитрий Георгиевич Иванеев назвал появление «Первороссиян» «взрывом», подобным тому, который пережил наш кинематограф в 1958 году после выхода фильма «Летят журавли»49. Это доказывает и последовавшая творческая реакция нашего кинематографа на то, что было сделано.
Евгений Шифферс вскоре после завершения работы на «Ленфильме» вынужден был переехать в Москву—в основном из-за конфликтной ситуации, усилившейся вокруг его личности в Ленинграде. В результате он «ушел из искусства» и погрузился в религиозную философию. Наша культура потеряла талантливейшего режиссера. На «Ленфильме» Михаил Щеглов познакомился с Геннадием Полокой. Тот увидел в нем, как он говорил в одном из интервью, «художника, о котором всегда мечтал», и сразу же пригласил сотрудничать в фильме «Интервенция».
1. В творческую группу входили: редактор И.Тарсанова, второй режиссер Е.Шифферс, художник-постановщик М.Щеглов, оператор Е.Шапиро, композитор Н.Каретников.
2. И в а н о в а Т. Именем революции // Советская культура. 1966. № 132. 5 ноября.
3. ЦГАЛИ. СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1719. Л. 218.
4. Там же. Л. 219.
5. Там же. Л. 167.
6. М о л д а в с к и й Д. Трудные дороги первороссиян // М о л д а в с к и й Д. Снег и время. Л.: Советский писатель. 1989. С. 377.
7. Там же. С. 377, 380.
8. ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1747. Л. 75.
9. Ш е р ш е в с к и й Л. Трагедия, матерь живого огня // Горьковский рабочий. 1968. № 88. 13 апреля.
10. I Международный кинофестиваль в Санкт-Петербурге. 1993. С. 73.
11. ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1719. Л. 171-172.
12. Авторское пояснение.
13. М о л д а в с к и й Д. Цит. соч. С. 376.
14. Имя Шифферса в титрах все же осталось.
15. Б е р г г о л ь ц О. Первороссияне. Режиссерский сценарий. «Ленфильм», 1966. С. 107.
16. М.Щеглов только что дебютировал в кино как художник по костюмам в фильме «Зимнее утро».
17. «Сотворившая чудо» (ТЮЗ), «Маклена Грасса», «Ромео и Джульетта» (Ленинградский областной театр драмы и комедии).
18. У р е с А. Экстрасенсорика Шифферса // Театр. 2000. № 1. С. 41.
19. Там же.
20. ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1447. Л, 63.
21. М о л д а в с к и й Д. Цит. соч. С. 376.
22. Ш е р ш е в с к и й Л. Указ. соч.
23. Там же.
24. Ф о м и н В. «На братских могилах не ставят крестов…» // Искусство кино. 1991. № 8. С. 24–36.
25. Б е р г г о л ь ц О. Цит. соч. С. 22.
26. Там же. С. 26.
27. Там же. С. 19.
28. ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1447. Л. 74.
29. Там же. Л. 433–434.
30. Там же. Л. 435–436.
31. Там же. Л. 438.
32. Там же. Л. 439.
33. Там же. Л. 442–443.
34. Там же. Л. 445.
35. Там же. Л. 452–454.
36. Там же. Л. 446–448.
37. И в а н о в а Т. Указ. соч.
38. ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1719. Л. 223.
39. К сожалению, режиссерский сценарий с полной раскадровкой М.Щеглова бесследно исчез.
40. Б е р г г о л ь ц О. Цит. соч. С. 22.
41. Там же.
42. Там же. С. 24.
43. Там же. С. 26
44. ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1719. Л. 202.
45. Автор имеет в виду работу К.Малевича «Черный квадрат».
46. Б е р г г о л ь ц О. Цит. соч. С. 38.
47. ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 1477. Л. 456.
48. Там же. Л. 198.
49. Из интервью, данного автору
http://www.kinozapiski.ru/data/home/articles/attache/217-238.pdf
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:30 | Сообщение # 10 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| «ПЕРВОРОССИЯНЕ»: АРХИВ
Огромный архив Александра Гавриловича Иванова безвозвратно утерян: его уничтожила вдова режиссера, Ксения Александровна Черемухина, оскорбленная равнодушием коллег и исследователей, которые за десять лет даже не поинтересовались, что находится в архиве ее мужа. То немногое, что удалось спасти наследникам Ксении Александровны (Иде Анатольевне и Глебу Дмитриевичу Черемухиным), они передали мне. Большая часть сохранившихся материалов опубликована в «Киноведческих записках» (№№ 57, 60, 62)—это дневник периода съемок документального фильма «КарелоФинская АССР» (1952) и подготовки к нереализованному (на радость растерянного режиссера) цветному «Александру Невскому», а также главы из второй, неопубликованной, части книги мемуаров «На экране и за экраном». К сожалению, эта вторая часть книги—посвященная работам периода «оттепели» и 1960х годов—не сохранилась. Не сохранилась, соответственно, и глава о «Первороссиянах»1. Остался лишь дневник, которыйАлександр Гаврилович вел во время экспедиции в Теберде. Дневники Иванова велись всю жизнь подробно и обстоятельно и были своеобразными эскизами будущих мемуаров. Конечно, они подвергались правке и «причесыванию»,—отдельные куски, вероятно, предназначались для публикации. Это все видно на примере материалов по «КарелоФинской АССР».
Чудом сохранилось и несколько десятков писем Иванова к жене. Ксения Александровна рассортировала их «по фильмам», вероятно, предполагая использовать для будущего сборника или монографии. В конверте «Первороссияне»—десять писем. Они написаны мелким, разборчивым почерком на бланках «Второе творческое объединение “Ленфильма”» и «Фильмспектакль “Балтийское небо”» (картину, которую в результате поставил Владимир Венгеров, первоначально должен был снимать Иванов). Письма не просто написаны на бланках: они строго пронумерованы, что облегчает работу исследователей (не удивлюсь, если педантичный Александр Гаврилович и об этом подумал): можно с уверенностью сказать, что сохранились все письма за период с 14 июля по 29 августа 1966 года за исключением двух (№№ 3 и 4). Некоторые письма с незначительными отклонениями дублируют дневниковые записи, так что публиковать и дневник, и всю подборку писем бессмысленно. Поэтому дневник—как цельный художественный текст—публикуется полностью, а из писем выбираются лишь те, что содержат дополнительную информацию: они даются как вкрапления в дневник и снабжены нашими примечаниями.
Дневниковые записи изредка перемежаются не имеющими никакого отношения к фильму выписками из художественных произведений, которые читал Александр Гаврилович в перерыве между съемками, списками иностранных слов и выражений (вроде «Memento mori» или «Cherchez la femme»). Все это, безусловно, может пригодиться будущим биографам Александра Иванова, ежели таковые найдутся, но в подборке материалов о «Первороссиянах» подобные отступления лишь отвлекут читателя. Это—единственные купюры в тексте.
Анализировать записи Александра Гавриловича я не стану. Он был достаточно умен, ироничен и, когда нужно, беспощаден: у него хватало мужества проанализировать самого себя до конца. Как, собственно, хватило мужества и на то, чтобы взять под свою опеку картину, казалось бы, чуждого ему коллектива, принять все правила и устои этого коллектива и разделить его судьбу до конца. «Первороссияне» окончились для Александра Иванова инфарктом и стали его последним фильмом. Да, я не оговорился: его фильмом. Конечно, картина задумана и реализована, прежде всего, Шифферсом, Щегловым, Шапиро, Каретниковым, но и Александр Гаврилович Иванов имеет полное право считаться ее автором. К чести коллектива—таково было и остается общее мнение.
Стенограмма заседания худсовета «Ленфильма», на котором обсуждалась картина «Первороссияне» приведена полностью. Это заседание было не только самым длительным в 1966 году (стенограмма занимает более 60 страниц, в то время как обсуждения других картин—20–30), но и самым, так сказать, сюжетным.
Не все приняли замысел авторов, но все поняли его. Защитить картину было делом чести, ибо, защищая фильм, защищали сам принцип авторского кино. Ленфильмовцы знавали единение в погромах—кампания 1949 года по борьбе с космополитами в искусстве была еще свежа в памяти. Здесь же, едва ли не впервые, объединились в защите.
И если от Ефима Добина, Матвея Гуковского, Исаака Шнейдермана другой реакции и ожидать было нельзя—к этому обязывала не только нравственная, но и художественная позиция, то выступление Николая Лебедева, одного из самых «идеологическивыверенных», образцовопоказательных, осторожных режиссеров советского кино, вызывает восхищенное недоумение. Вряд ли его пламенная защита объясняется лишь тем, что художник Михаил Щеглов начинал работу в кино на лебедевском «Зимнем утре». Нет, скорее всего, Николай Иванович вспомнил свои работы начала 1930х, когда и у него был свой стиль, свой почерк, когда он замечал, что делается вокруг. Отсюда неожиданная и точная параллель с фильмами Ивана Кавалеридзе, к середине 1960х прочно забытого (не могу не отметить, что киновед Евгений Марголит, сравнивающий в своей статье «Первороссиян» с «Ливнем» Кавалеридзе и другими картинами украинского поэтического кино, с текстом стенограммы знаком не был).
Не менее показательно и выступление Григория Козинцева, который поэтическое кино не признавал. Он и здесь не может удержаться от противопоставления «Первороссиян» будничному, «разговорному» фильму Иванова «Солдаты», но все же защищает картину. Несколько лет спустя, посмотрев одно из самых громких произведений условнопоэтического кино, «Мольбу» Тенгиза Абуладзе, он саркастично запишет в рабочей тетради: «А не лучше ли вернуться к чтению под диапозитивы? <…> Картинность, позы, аллегории»2. О «Первороссиянах» в рабочих тетрадях и вовсе нет записей, что показательно (обычно Козинцев отмечал все маломальски значимые для него картины). Однако на худсовете он выступает как адвокат—не просто фильма, но самого принципа творческого спора в искусстве.
Наконец, про это же… даже не говорит, а кричит (это хорошо видно из стенограммы) Ольга Берггольц. Литературный сценарий, задуманный еще до войны, вчерне написанный в конце 1950х, в корне переработанный Ивановым и Шифферсом, был бесконечно далек от фильма. И картина, естественно, ей не понравилась, о чем не раз писали исследователи и мемуаристы, да и публикуемые ниже материалы подтверждают это абсолютно.
Небольшое отступление. Александр Иванов и Ольга Берггольц были знакомы, неоднократно обсуждали сценарий. Как вспоминает И.А.Черемухина, Ольга Федоровна время от времени звонила и, к ужасу Ксении Александровны, кричала чтонибудь вроде: «Мы им покажем!» Точек пересечения Ольги Берггольц с Шифферсом не было и, казалось, быть не могло. И все же одна существовала: Александр Довженко. Шифферсовский панегирик Довженко записал в своем дневнике Яков Бутовский3. А вот—цитата из мемуаров о Берггольц, написанных литературоведом Банк:
«Однажды я попросила для работы два тома из собрания сочинений А.П.Довженко. <…> На этот раз книга застряла у меня надолго. Чуть ли не при каждой встрече и по телефону Ольга Федоровна напоминала: “У тебя Довженко!” <…> Собрание Довженко стояло у нее на полке против постели, теперь там зияла пустота, словно друг ушел из дому и бог весть когда вернется…»4
Своему биографу Дмитрию Хренкову она говорила прямо: «”Первороссиян” нужно писать свободно и широко, имея ориентиром последний сценарий Довженко “Повесть пламенных лет”».
Здесь не место для рассуждений о генезисе творчества: мне лишь хочется обратить внимание на столь значимое совпадение. Это на многое проливает свет—хотя бы на ту же близость к фильмам Кавалеридзе и украинского поэтического кино.
И все же, посмотрев картину, Ольга Берггольц «зареклась было связываться с кинематографом»5. Однако за фильм вступилась—и опять же, не просто за фильм, но за право на трагедию, которого столько лет было лишено советское искусство. Не случайно звучит здесь хлесткое слово «сталинщина», за которое неизменно цепляется глаз: оно не из «лексикона стенограмм».
В остальном—выступления обдуманные, порой прослоенные дежурными фразами, стандартными оборотами. Но тем увлекательнее продираться сквозь эти канцеляризмы и штампы, с радостью убеждаясь, что члены художественного совета «Ленфильма», все как один, защищая заведомо обреченный фильм скандальноизвестного, опального режиссера, защищали гораздо большее—свободу художника. Как сказал—совсем про другую эпоху—Виктор Шкловский: «Революция надувала паруса даже тех, кто ее не понял»6. Пятьдесят лет спустя ситуация повторилась.
1. Опубликован лишь один текст А.Г.Иванова о «Первороссиянах»—главка в брошюре «Полвека в кино» (Л.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1973. С. 55–63), представляющий некоторый интерес, но (как и вся брошюра) бесконечно далекий от мемуарной книги.
2. К о з и н ц е в Г. М. Из рабочих тетрадей. // К о з и н ц е в Г. М. Собр. соч.: в 5 тт. Л.: Искусство, 1983. Т. 2. С. 371.
3. См. статью Я.Л.Бутовского в этом номере «Киноведческих записок».
4. Б а н к Н. «Запоминай все это!..» // Вспоминая Ольгу Берггольц / Сост.: Г.М.Цурикова и И.С.Кузьмичев. Л.: Лениздат, 1979. С. 222–223.
5. Х р е н к о в Дм. От сердца к сердцу: О жизни и творчестве Ольги Берггольц. Л.: Советский писатель, 1982. С. 184.
6. Ш к л о в с к и й В. Б. О рождении и жизни ФЭКС’ов // Н е д о б р о в о В. ФЭКС. М.Л.: Кинопечать, 1928.
Петр Багров
http://www.kinozapiski.ru/data....rov.pdf
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:32 | Сообщение # 11 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| «ПЕРВОРОССИЙСКА НЕТ—КОММУНА ЗРЕЕТ»
Объединенное заседание Художественного совета студии и Второго творческого объединения
Просмотр и обсуждение фильма «Первороссияне»
Автор О.Берггольц
Режиссер А.Иванов
от 4-го апреля 1967 года.
Председатель—КИСЕЛЕВ И.Н.1
КИСЕЛЕВ И.Н.: Начинаем обсуждение новой работы студии—фильм «Первороссияне»—автор сценария О.Ф.Берггольц, режиссер-постановщик А.Г.Иванов. Желающих прошу выступить.
ДОБИН Е.С.2: Должен сказать, что первое и самое сильное чувство после просмотра картины, это чувство глубочайшего уважения к группе Александра Иванова, которая дерзнула пойти по пути наибольшего сопротивления, по пути сложному и нелегкому, по пути поэтическому и трагедийному.
В немом кинематографе поэтическая струна была очень заметной. Все мы помним картины Пудовкина и Эйзенштейна. В звуковом кинематографе очень явственно обнаружилось тяготение к прозе, к повествованию. И мне кажется, что талантливая попытка режиссера-постановщика А.Г.Иванова и режиссера Е.Шифферса опять вернуться к поэтическому строю в кинематографе, заслуживает всяческой поддержки и поощрения. Я испытываю глубокое уважение к группе за то, что она обратилась, ради этого, к замечательному поэтическому произведению Ольги Берггольц.
Для нас имя Ольги Берггольц и то, что она писала, это не одно из поэтических имен. Для нас, ленинградцев, это имя, которое начинает поэтический ряд Ленинграда. Имя Ольги Берггольц и то, что она писала, ее стихи, тесно связаны с героической эпопеей Ленинграда во время войны. Это время, когда стихи Ольги Берггольц раздавались на всем пространстве нашей страны, их читали и любили миллионы.
Стихи Ольги Берггольц запечатлены на мемориальном Пискаревском кладбище, и, мне кажется, что в этом импозантном архитектурном сооружении, самым долговечным, долговечнее мрамора, золота и бронзы будут слова Ольги Берггольц.
В поэме «Первороссияне» Ольга Берггольц обратилась к другому периоду нашей страны. Это 17-й–18-й год. Об этом периоде советская кинематография поставила много блестящих исторических картин, картин другого рода, чем та, которую мы просмотрели сейчас, картин, где историю раскрывают детали в характерах, в ряде обстоятельств, в подробностях быта. И я думаю, что не будет недооценкой того, что сделано нашей кинематографией в этом повествовательном, историческом, прозаическом жанре, если мы скажем, что наряду с этим имеет право существовать произведение поэтического рода, эпического, трагедийного рода.
Здесь мы наталкиваемся на вопрос очень принципиальный, который на протяжении многих десятков лет вызывает споры—вопрос о месте трагедии в нашем искусстве. Некоторые считают, что огромная мощь революции, ее завоевания, ее достижения, славно пройденный ею путь, несколько оттесняет жанр трагедии из нашего искусства, и если даже трагедия по-является, то ее нужно, если можно так выразиться, детрагедизировать. Мне кажется, что это совершенно не правомерно и что в нашей истории есть такие эпизоды, которые нельзя не поставить в целостном трагедийном ключе.
Гибель двадцати шести бакинских комиссаров нельзя поставить в ином ключе, чем в трагедийном. Когда мы смотрим картину о двадцати шести бакинских комиссарах, мы не обязаны видеть оптимистическую концовку, так как эту оптимистическую концовку дала сама жизнь. 26 комиссаров погибли не зря, они внесли свою долю в победу.
Здесь мы имеем дело не с двадцатью шестью комиссарами, а с питерскими пролетариями, рядовыми коммунистами, которые были полны героического стремления строить царство праведное, царство радости, счастья, справедливости и коммунизма. Они погибли, но дело их живет.
Мне кажется, что эта трагедия безвестных коммунаров, группки питерских пролетариев, которые уехали в далекие сибирские края, чтобы строить коммуну, их подвиг заслуживает того, чтобы поставить о нем картину эпическую, монументальную, в том стиле, в котором сделана эта картина.
Может быть, это надо было доказывать до поэмы О.Берггольц, а сейчас мы видим величие их стремлений, их гибели. Оптимистичность их трагедии, трагедии первороссиян заключается в их вере, в том идеале, который они несли в себе. Об этом в картине рассказано не повествовательно, а плакатно, в стиле монументальной живописи или в стиле фрески. Но эти крупные штрихи до нас доходят, и мы понимаем, что кровь, пролитая теми, кого мы видим метафорически, когда за кадром слышим выстрелы, а на сцене видим мать с ребенком, не зря пролита, в этом ребенке мы видим будущее. И образ той девушки, которая вышла из старого мира в новый, которая спешила предупредить коммунаров, этот образ метафоричен. Метафора красного платка на снегу, как красного знамени, есть символ картины.
Я считаю, что мы должны поддержать группу, которая поставила трудную картину, которая вносит свою ноту окраски, свои стремления в искусство, а мы говорим, что сила искусства заключается в его многообразии.
На этом разрешите закончить.
В.Я.ВЕНГЕРОВ3: Привычка моя собственная и большинства зрителей и режиссеров к игровому кино (смотреть и снимать игровое кино привычно) очень осложняет возможности анализировать картину такого особого порядка. И всегда картины такого порядка вызывают у меня большой интерес и, как сказал Е.С.Добин, уважение, любопытство, желание видеть возможности кинематографа, такого же разнообразного искусства, как и литература.
Это ощущение я испытываю после просмотра этой картины. Анализировать ее довольно трудно, просто непривычно и интересно послушать критиков, которые больше подготовлены к такого рода произведениям.
Здесь нельзя рассуждать, хорошо ли играет Честноков4 роль Ленина или хорошо ли играют другие артисты героев фильма, потому что не этим способом, не этими средствами вызывается впечатление.
Когда впечатление вызывается особым видом искусства, особенными средствами, то ставишь вопрос не о форме этого произведения, а о том, какую цель оно преследует, какие оно вызывает эмоции, мысли? Когда понимаешь собственное ощущение, понимаешь, что эта цель благородна, это цель наша, это цель человеческая, то тогда всякая особенность средств становится понятной и объяснимой. Ясно, что здесь мы говорим о поэзии и музыке в кинематографе. Ефим Семенович сказал о монументальной фреске, о сочетании этих рядов искусства, оно и создает впечатление и вызывает симпатии к тому, что в фильме происходит.
Очень дорого для ленфильмовцев, что Александр Гаврилович Иванов пошел на какой-то для себя очень героический, на мой взгляд, подвиг, на поиск новой формы, после тех картин, которые он делал. И вся группа, которая с ним работала, самоотверженно и успешно приходила к увиденному им результату.
Я могу сказать, не пытаясь подробно анализировать картину, что это мне симпатично и приятно, и что мне приятно за студию, что появилась такая картина.
Могу лишь вспомнить высказывание Маяковского о роли поэзии и ее цели. Цель поэзии, роль поэзии—проникнуть в те участки мозга, куда другие средства не проникают. Этим поэзия и ее средства отличаются от иных искусств.
Если эта картина по своей форме такая поэзия, она и проникнет в те участки мозга, которые не затронуты хорошими, но другого жанра, произведениями. В этом ценность формы этой картины.
ОРЛОВ С.С.5: Я смотрел картину еще в материале, и тогда, здесь же, в этом зале, состоялось краткое обсуждение. Я позволил себе тогда высказать свое чисто эмоциональное отношение к тому материалу, который я видел. Потом я смотрел картину в целом. Я очень боялся, что то ощущение, которое у меня родилось от материала, может быть чем-то разбито, поколеблено, уничтожено или стерто, потому что иногда незаконченная картина дает возможность поразмыслить и что-то додумать самому, но когда я увидел картину в законченном виде, я окончательно утвердился в том отношении, которое зародилось у меня при просмотре материала.
Во-первых, делали картину два мастера—мастер кинематографа и мастер поэзии, два очень опытных, много поработавших для нашего искусства и литературы человека, и работающие в плане гражданском. Александр Гаврилович представляется мне мастером кинематографа, главным образом, большого гражданского пафоса, а об Ольге, товарище, который ближе мне по цеху, я просто не считаю нужным говорить, все ее знают. Но мне хотелось сказать, что для меня Ольга Берггольц была всегда поэтом высокого трагедийного пафоса, кроме того, что гражданские темы у нееутверждались через трагедию. Это было в ее блокадных стихах, в стихах о революции, о первой российской коммуне. Все это органично для нее, и мне представляется, что очень органично воплотилось в образах кино. Это Ольга Берггольц в смысле литературном, в смысле изобразительном. Поэтому я позволю себе сказать, что меня картина взволновала. Не везде, конечно, есть места рассудочные, главы, которые сделаны и рассчитаны не на столь большую эмоциональную силу, как этого хотелось бы. Так не бывает, чтобы все было эмоционально впечатляющим.
Для меня самым эмоциональным куском картины является глава пахоты. Здесь не только высокая метафоричность, которая читается в каждом кадре и в том, что мы видим на экране. На экране мы видим то цветистую, полную жизни толпу, то видим камни, видим, как падает женщина на эти камни. На экране эти камни белые, и все это очень читается.
Может быть, кто-нибудь может сказать, что это картина только для подготовленного зрителя, но подготовленность, мне кажется, определена всей нашей жизнью. Мы знаем историю гражданской войны, историю революции. О революции, очевидно, будут созданы еще высокие трагедийные произведения. Это, на мой взгляд, первое киновоплощение, хотя о революции и гражданской войне тот же «Ленфильм» поставил комедию «Свадьба в Малиновке»6. Одно без другого быть не может, жизнь многообразна.
Я хотел бы еще отметить, что речь идет не только о стихах, но и о роли большого коллектива, о роли художника. Мне кажется, что большим открытием в этой картине является использование цвета. Мне иногда бывает трудно смотреть некоторые цветные фильмы, цвет иногда мне мешает. Здесь цвет очень определенный и очень резкий, здесь нет полутонов; красное, черное, белое, золотое—все это резкие тона, но они не мешают смотреть картину. Цвет не только раскрывает эмоциональную сторону, но цвет несет смысловую нагрузку. Это большое открытие в области кино. И тут большая заслуга художника.
Мне нравится, что картина решена действительно в эпическом, былинном плане, где мелочи не важны, где важно общее, очень определенное, крупное, где обобщения несут не только главную нагрузку, но и должны быть живой плотью жизни, без которой невозможно поставить картину в символах и аллегориях.
Я хотел бы сказать, что новое, оно не всегда воспринимается сразу, но получилось так, что я принял тот язык, который был предложен двумя большими мастерами сразу, для меня этот язык понятен. Что же касается идейной концепции картины, то она раскрывается очень точно, четко, и я тоже с ней согласен. Я согласен потому, что всегда помню камни Марсова поля, а этот четырехугольник поля идет через всю картину. Это и четырехугольник поля, скованный снегом, это и четырехугольник поля, на котором сеется, растет и затем сжигается хлеб. Этот четырехугольник поля всегда обращал меня к надписям, которые мы видим на его камнях. Я всегда читаю эти надписи на камнях Марсова поля. Они не то что являются эпиграфом картины, но они для меня все время звучали в фильме—«посев ваш жатвой созреет…»
Когда сеют, чтобы вырос хлеб, и потом, когда этот хлеб сжигают, эти вещи меня глубоко волнуют, заставляют задуматься и осмысливать, чембыла для нас революция, чем она была для всех людей, населяющих земной шар.
КОШЕВЕРОВА Н.Н.7: Я не видела ни одного кадра картины, сегодня я в первый раз видела ее на экране и считаю, что это очень большое и значительное произведение, и могу я рассуждать лишь эмоционально.
Казалось бы, картина такой сложной и необычной формы могла бы в принципе, если бы она не была сделана так, как сделана эта страстная картина, оставить человека холодным. Думаю, что весь зал, который так внимательно смотрел и слушал картину, был в таком же состоянии, что и я. Это настоящее трагическое, трагедийное произведение в условной форме, оно и не могло быть иным, потому что поэма Ольги Берггольц, произведение стихотворное, не может быть сделано просто натуралистически или реалистично.
Я не буду много говорить, потому что детально разбираться в картине трудно, для этого ее нужно смотреть еще, но должна сказать, что чрезвычайно интересна работа художника и оператора. Весь коллектив идет в едином, слитном и точном направлении. А чем наше искусство будет многообразнее и интереснее и по форме и по содержанию, тем лучше.
С точки зрения идейной, картина, как совершенно ясно сказал С.С.Орлов, картина не вызывает не только никаких сомнений, но вами овладевает гнев и горечь за погибшие жизни, но никаких пессимистических тенденций это не вызывает, потому что с того времени, когда проходили первые трудные революционные дни и делались трудные шаги, прошло 50 лет. Сегодня это история, которую мы должны знать, и эта история вызывает у нас только самые высокие чувства.
МУРАТОВ Л.Г.8: Мне кажется, что эту картину нельзя воспринимать вне всего того, что делается вообще в кинематографии и, в частности, в кинематографе, обращенном к революционному прошлому. Дело в том, что у нас в последние годы в фильмах, которые рассказывают о революции, о 17-х–18-х годах, происходит странная вещь. Мы забыли о цветах борьбы. В частности, я хочу вспомнить, что когда в киноведении хвалят картину «Броненосец “Потемкин”», обычно приводят пример с красным флагом, раскрашенным от руки, и что это показывает величие идей, стоящих за этим флагом. В этом кадре с раскрашенным от руки флагом есть и трагическое обобщение истории. Во всяком случае, я воспринимал это так, и Эйзенштейн был велик тем, что показал трагедийность истории. Это было зримым воплощением слов Маркса о том, что история трагична.
К сожалению, кинематограф забыл эти чистые цвета борьбы. Во имя плоско-вульгарного понимания человечности стали превращать Дзержинского в Луначарского, Коллонтай сделали дамой-патронессой.
Эта картина мне нравится тем, что она возвращает чистые тона в виде трагедийного освещения начала нашего времени. Мне это очень близко. Я не видел этого в последние годы в нашем кинематографе, который начал сглаживать нашу историю и делать ее серой.
Второй момент, который хотелось бы отметить. Очень хорошо сказал Е.С.Добин насчет поэтики этого фильма. Это большое достижение. Мы приучили себя к среднему статистическому отображению той эпохи, у насмного стало стандартов. Здесь поиск идет в жанре легенды, хотя если говорить о лично моем взгляде, я больше люблю, когда историю показывают так, как в «Первом учителе»9. Но правомерно показывать и в стиле легенды.
И последнее. Эта картина обладает своей психологией восприятия, которая не будет восприниматься всеми, и это можно заранее предрешить. Это «Тени забытых предков», это поэтический язык. И, мне кажется, единственный просчет этой картины в двух последних главах. Тут не найден финал картины, и мне показалось, что в сцене, когда убивают женщину на снегу, когда идет хороший кадр первых шагов ребенка, встреча с молодым парнем,—все это идет в поэтическом ряду, а потом начинается информационный ряд, когда мы видим, что идет женщина с мальчиком, от которой мы узнаем, что женщина, которую убили, хотела предупредить коммунаров. Тут мне кажется, что картина спускается с поэтического ряда, а в финале хотелось бы иметь те же поэтические высоты, что и в начале и в середине картины. Если финал был бы сделан в более поэтическом ряде, то картина только выиграла бы.
ШНЕЙДЕРМАН И.И.10: На меня картина произвела очень большое впечатление. Я не могу сказать, что она во всем ровная и цельная, но она производит очень большое впечатление.
На днях я делал доклад об итогах работы студии за 1966 год, но я совершенно не предполагал возможность появления такой картины. Ничего не вытекало из прошлого года, из предыдущего, и я очень рад, что вытекло.
Новое воспринимается с большим трудом. Здесь есть много нового, но основанного на больших художественных традициях. Когда Александр Гаврилович сделал «Солдат», тогда это было очень ново, это шло впереди поисков, во многом опередило свои дни. У картины были трудные дни, и лишь потом она была оценена11. И действительно, «Солдаты» дали почву для целого поколения кинематографистов, говорящих о войне.
Я под очень большим впечатлением того факта, что Александр Гаврилович сумел найти в себе столько энергии, сил, столько художественной смелости, чтобы вместить в себе искания нового этапа нашего кинематографа (а сейчас тенденции метафорического кинематографа возродились очень сильно), что он сумел это очень органически претворить и пойти в этой картине своим путем. Картина многофактурна, в ней парадоксально сочетается художественная фактура, фотография, плоскостное решение, иллюзионистски окрашенные лица, хотя они окрашены одной краской. Меня это бросало из стороны в сторону, прежде чем я привык к этому сочетанию и подчинился их логике. Мне показалось, что здесь много в высшей степени интересного.
В последнем номере «Искусства кино» в разделе «За круглым столом» есть статья под названием «Возвращение». И действительно, сейчас в наше искусство возвращается многое из того, что надолго было забыто.
Мы с восторгом ходили по выставке Петрова-Водкина12 и смотрели «Купание красного коня», подходили к картине «Смерть комиссара». Вспомните сейчас эту картину с ее световым решением, с героем на первом плане, с видением, которое витает над ним, и очень многое станет понятным в этом сегодняшнем фильме.
Я думал, что это недоступно кинематографу, что на этом нельзя строить целое произведение. Оказывается, этим приемом можно построить очень впечатлительное и сильное произведение.
Я хотел бы так же подчеркнуть единство звукового и изобразительного ряда. Мне кажется, что в высшей степени интересно соединяется изображение с музыкой и вокалом, получается очень большое впечатление. Где-то вы с ним спорите, полемизируете. Правильно заметил Л.Г.Муратов относительно информационного сообщения в последней части картины. Меня это тоже резануло, но, мне кажется, что сделан опыт очень интересный, большой, впечатляющий. Какая будет судьба у этой вещи—трудно сказать, и не надо, может быть, ее предрешать заранее. Художник не должен об этом думать, художник должен идти своим путем и давать людям своим решением как можно больше из того, что он хочет дать, быть искренним. А зритель есть разный. Есть зритель, у которого картина получит отклик, так же как она дала отклик у нас. Я рад, что режиссер Венгеров, художник совершенно другого плана, относится к этой работе А.Г.Иванова с большим и сочувствием и интересом. И я отнесся к этому с большим интересом даже там, где резали глаз или ухо, и это преодолевалось интересом вещи. Косьба, выжженное поле—это образы пластической выразительности. Это имеет свою художническую правду.
О трагической стороне. Здесь о сюжете и главной его стороне хорошо сказано Добиным и Орловым, сказано исчерпывающе. Я думаю, что это вещь, которая обогащает наше киноискусство. Она имеет не общее «выражение лица» и очень хорошо, что на студии могли это сделать, что родился союз молодых художников с более зрелым мастером, что он оказался способным на такое смелое новаторство.
КОЗИНЦЕВ Г.М.13:Я, наверно, не скажу ничего особенного: многое из того, что говорили до меня, кажется мне верным. До недавних пор могло сложиться впечатление, что в нашем искусстве есть только одна стилистическая линия, коли-ежели произведение получилось хорошо—оно и при-надлежит к этой линии. А в нашем искусстве, в лучшие его периоды, был творческий спор. Люди могли спорить, разными художественными способами выражать общие для всех нас идеи. Например, поэтика Вишневского14, к которому я относился с большим уважением, мне лично чужда. Но я понимаю, что это большое и сильное искусство. В дневниках Вишневского можно об этом прочесть. В споре образовалась и «Юность Максима».
Успех А.Г.Иванова и коллектива, который с ним работал, заключается в том, что те традиции нашего искусства, которые еще могу жить и развиваться, ожили в этом фильме. Эти традиции в нашем искусстве закономерны. Речь идет об искусстве ранних лет революции. Искусство первых лет революции, политическое направление которого было очевидно для всех, было антипсихологично, оно выражало действительность обобщенными формами. Это плакаты РОСТА, спектакли «Синей блузы», агитпредставления на площадях в дни революционных праздников, самодеятельность времен начала революции. И художники того времени шли по этой линии. Было ощущение, что история изменилась, век начинает новую жизнь, произошел самый решающий в истории поворот, и что дело не в том, какой былв данное время [так в тексте—П.Б.]. Это антибытовая, антипсихологическая линия. И на ее основе А.Г.Иванов сделал фильм-реквием тем, кто отдали свои жизни революции. Отсюда и символы, аллегории, и чистый цвет и влияние полотен Петрова-Водкина, которые недавно возвращены нашей культуре. Все связано с традициями революционного искусства.
Мне кажется, что работа коллектива законченная, в своем, очень определенном плане. Мне кажется, что фильм дает ощутить дистанцию времени. Есть возможность задуматься над путем, который мы прошли. Медлительный темп и статичность некоторых кадров дает возможность человеку оживить мир ассоциаций, связанных с героями, которые погибли в начале революции. Если говорить о скорби в этой картине, то эта скорбь трагедийная, скорбь благородная. Правда, я должен сказать, что как зритель я больше благодарен Иванову за фильм «Солдаты», чем за этот фильм.
Мне лично представляется абсолютно правильным и точным для современного искусства то, что написал Хемингуэй: «Самое трудное и самое большое, что ты можешь сделать, это написать простую, честную фразу».
Мне представляется, что в каждом искусстве, будь ли это литература, живопись или кинематограф,—простая, честная фраза, совершенно ясная, понятная каждому человеку—самое сильное. Это мое мнение, но я ни в какой мере не могу с точки зрения своих личных вкусов подходить к этой работе. Я могу лишь сказать, что с уважением отношусь к труду коллектива, считаю, что оживление старых традиций революционного искусства имеет все права на существование.
Я считаю, что работа оператора прекрасна. Картина отлично снята.
Мне кажется, что и то, что мы слышим с экрана великолепные стихи Берггольц—является привлекательным.
Есть отдельные сцены в фильме, с которыми мне хочется спорить уже не с точки зрения моих личных вкусов, а с точки зрения тех закономерностей, которые предлагает картина.
Мне не понравилась любовная сцена, она уже не в традиции революционного искусства.
Кадры, где на первом плане какая-то женщина хохочет и кликушествует15, мне так же не нравятся своим переигрышем.
Продолжение следует...
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:33 | Сообщение # 12 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| «ПЕРВОРОССИЙСКА НЕТ—КОММУНА ЗРЕЕТ»
Объединенное заседание Художественного совета студии и Второго творческого объединения
Просмотр и обсуждение фильма «Первороссияне»
(продолжение)
ГЛИКМАН16: Мне было приятно, что с первых кадров я сумел настроиться на ту волну, которая исходила из картины. Я не спорил с ней, я подчинялся ей. Это было для меня первым признаком того, что создано произведение очень интересное для меня как для зрителя. Картина необычная до чрезвычайности на фоне тех картин, которые мы имели за последние годы. Мне кажется, что эта необычайность коренится в необычности сценария. То, что написала Ольга Берггольц, решительно не похоже на груду сценариев, которые появляются на экране или остаются в письменных столах.
Этому сценарию свойственны элементы эпоса и поэтическая символика, патетизм и интонация сказа. И эта поэтика была чутко воспринята режиссурой, мы увидели эту поэтику, воссозданную на экране. Я все вре-мя вспоминал сценарий, который я читал год тому назад, и видел, что он оживает на экране с большой выразительностью, с большой силой, иногда очень волнующей. Правда, в сценарии Ольги Федоровны были элементы быта, были жизненные подробности, причем эти подробности были очень яркие и сочные. Режиссура почему-то от этих подробностей отказалась и шла по пути обобщения, и только обобщения. Может быть, это нанесло какой-то ущерб картине, может быть. Мне сегодня трудно анализировать картину, так как я увидел ее в первый раз.
На меня очень сильное впечатление произвела сцена отъезда с менуэтом, пианино и т.д. Когда я читал сценарий, я не мог себе представить, как это будет поставлено. Режиссура нашла невероятно скупую манеру, совершенно статичную, чрезвычайно простую, и в результате возникла необычайная атмосфера отъезда в высшей степени необычайных людей куда-то далеко.
На меня сильное впечатление также произвела сцена, в которой встречается вдова Гремякина с этим святым (пусть так назовем его)17. Это в высшей степени емкая, глубокая, эмоциональная сцена, которая ничего не комментирует, но она в высшей степени человечна при всей ее скупости. Кто-то говорил, что ей не следовало рассказывать, что женщину убили, потому что она хотела предупредить. Эта фраза действительно странно звучит в совершенно ясной ситуации. Но сама по себе эта встреча мне представляется очень глубокой по своему внутреннему драматизму и по своей огромной емкости.
Г.М.Козинцеву не понравилась любовная сцена, глава, которая называется «Муж и жена». Может быть, там есть какие-то излишества, но меня очень многое тронуло в этой главе.
Кстати, если можно сегодня анализировать и делать какие-то замечания, то я позволю себе высказать мнение вот по какому поводу. Эпос любит повторы, это верно. Но мне кажется, что некоторые повторы в этой картине чрезмерно форсированы, и они наносят ущерб. Например, сцена на Марсовом поле, когда несут гробы. Это очень просто, монументально, красочно. Затем в картину вводятся Ростральные колонны, сфинкс и цари. Они возникали однажды, я понял мысль режиссера. Потом они показаны снова. Мне показалось, что они до бесконечности вводятся на экран. Меня этот повтор огорчил. Здесь явно «пережата педаль». Если бы эти (условно говоря) скульптуры не повторялись, поэтическая сцена на Марсовом поле выиграла бы.
В сцене отъезда коммунаров, которая мне очень понравилась, приезжает настройщик. Он поклонился. Это было очень хорошо, но когда он в качестве концертанта кланяется публике трижды—может быть, я ошибаюсь,—но мне показалось излишним и разрушающим и юмор, и лиризм встречи настройщика с отъезжающими коммунарами.
Я согласен с высказанным мнением по поводу пахоты. В целом это прекрасная сцена и я даже могу понять женщину, которая кликушествует. Это, видимо, какая-то сектантка, но когда Феодосий начинает разговаривать, то мне кажется, что это звучит фальшиво, ибо он говорит с какой-то непонятной для меня интонацией. Это какое-то непонятное представленчество, благодаря чему вносится недостоверность в эту, хотя и условную, но верную сцену. Я очень огорчился тому, что горностаевый старичок уступил место этому Феодосию. Мне кажется, что какие-то его кадры излишни. Когда он возникает на экране так грозно и сурово,—здесь тоже есть пережатость педали.
Я позволяю себе со всей откровенностью [говорить] о своем недовольствии, хотя, очевидно, режиссер много раз просматривал каждый кадр и вряд ли считает возможным теперь делать какие-то купюры. Но все же, мне кажется, что отдельные купюры пошли бы ей на пользу, чтобы не было желания во что бы то ни стало форсировать мысли или образы.
А в целом картина очень сложна, необычна, но, безусловно, интересна.
ВИТОЛЬ А.Я.18: Когда появляется произведение искусства, выходящее за привычный ряд, конечно, можно подвергнуть это произведение критике, именно за те качества, которые отличают его от других работ. Но, наверное, важнее разобраться и понять, что нового приносит такая работа, обогащает ли она те средства, которыми мы пользуемся, продолжает ли она поиск, который ведется в нашем искусстве. Мне кажется, что работа Александра Гавриловича Иванова и его товарищей заслуживает одобрения с этих позиций потому, что это поиск и эксперимент, и восстановление чего-то незаслуженно забытого, и нахождение чего-то нового.
Скажу откровенно, что когда я читал сценарий О.Ф.Берггольц, он мне не понравился потому, что я не понимал, как можно его поставить. Когда я увидел картину, я понял—оказывается, автор и режиссер видели будущую картину и делали ее, исходя из тех позиций, которые были заложены в сценарии.
Могу сказать, что многое и сейчас кажется не очень удачным, не очень входящим в привычную мне эстетику, но это не означает, что работа не представляет большого интереса и не является серьезной работой.
Если внимательно посмотреть вокруг, мы увидим, что подобные поиски существуют и в театре, где также существует разного рода эстетика и в декоративном оформлении, и в решении театрального действия. И не случайно сейчас так много спектаклей строится на поэзии, на «оживлении» документов. Очевидно, это происходит потому, что есть потребность оживить те формы, которые существуют для выражения мыслей и чувств, которые волнуют сегодня всех нас.
Вероятно, это характерно и для кинематографа, так как в ряде фильмов мы видим поиски молодых и старых мастеров. Самое правильное судить об этой картине с позиций того, что хотели сказать авторы, что они хотели показать зрителю. У меня не вызывают сомнений те добрые чувства, которые владели авторами.
Да, в революции были трагедии, были жертвы, но эти трагедии и жертвы были во имя людей, во имя жизни. Эта главная мысль проходит через эту картину. И это говорит о том, что эта картина работает на нас и рассказывает в волнующих событиях, о которых мы никогда не должны забывать.
Трудно судить, как воспримет картину зритель, будет ли на нее массовое паломничество? Но важно то, что эта картина заставляет думать, она заставляет о чем-то спорить, ибо не со всем можно согласиться, не все для меня здесь приемлемо.
И если говорить о недостатках, то мне кажется, что нужно еще раз посмотреть с позиций того, что хотели создать сами авторы. В картине местами чувствуется переход поэтической метафоры в рассудочность, в информационность. Иногда есть повторение кадров (похороны, финальный проход, пашня), которое превращается в некоторую монотонность, однообразие, и тогда становится скучно. Тогда спасает эмоциональный интерес к сути вещи. В некоторых сценах должен быть больший накал, большая страстность, и авторы тут, видимо, себя зря сдерживали, не доводя до нужного эмоционального воздействия. И крик в сцене любви, мне кажется, не должен быть таким иллюстративным. Тут должна быть любовь сквозь сжатые губы, что-то должно быть более глубокое, а не просто эффектный крик.
Эмоционально сильно сделано красное и белое, когда поэтически сталкиваются два мира. Но где-то спокойствие поэтическое превращается в однообразие, в формальный прием. Это нужно пересмотреть. От исключения этого фильм только выиграет.
Это относится к целому ряду сцен, когда эмоционально подчиняешься эстетике цвета. Меня не смущают камни, так как я понимаю, что они продиктованы внутренним смыслом эпизода. От поэтической мысли, от смысла образа родились красные планы, черные кадры. Но иногда вдруг рядом с красным кадром появляется белый план, и это непонятно, это превращается во внешний прием. Я принимаю кадр, когда портрет Ленина смыкается со знаменем революции, с коммунарами, стоящими на клятве. Но я не очень понимаю, почему рядом появляется белый портрет. Или когда противники (казаки) были в черном, потом вдруг они врываются белыми, двигались красные гробы и вдруг появились белые. За каждым моментом должен быть ясный ход мысли.
Если говорить о выборе пейзажа, натуры, то есть хорошо выбранные пейзажи, а есть просто понравившиеся ради формальности. Тоже относится и к финалу, где цветовой повтор снижает силу финала.
Мне кажется, что в целом это большая и интересная работа, о которой будут спорить и много говорить, уже за это она заслуживает всяческого уважения.
РАХМАНОВ Л.Н.19: С этой картиной очень легко спорить, очень легко ее критиковать с любой точки зрения, под любым углом зрения, в том числе и эстетическим, но для того, чтобы ее критиковать с этой точки зрения, ее нужно посмотреть не один раз. Да и все выступавшие здесь говорили, что после первого просмотра не могут полностью разобраться в фильме. Но некоторые принципиальные вещи хочется все же сейчас отметить в моем приятии или неприятии того или иного в этой картине.
Очень точно и верно сказано, что это фрески, очень верно назван Петров-Водкин. Я думаю, что от «Красного коня» во многом подходили и уходили от него так же.
Здесь все дело в чем? Эти фрески оживают. А вот как они оживают, как они оживляются, тут и есть самый большой повод для спора. Авторы картины, по-моему, тоже находятся в некотором противоречии и споре с самими собой. Как оживить фреску, которая вся условна, вся на живописной декламации, как сделать так, чтобы она ожила и чтобы это не казалось нам анормальным и [не]естественным. Оживить ли ее в бытовом жесте, бытовых подробностях, или опять-таки в той живописной манере, в которой онабыла дана в живописи. Мне кажется, что здесь авторы идут и так и этак, и стараются изо всех сил оживить ее в условном кадре. Люди, прежде чем ожить почти в стоп-кадре, долго смотрят на нас исподлобья, и лишь потом прорываются бытовые жесты и интонации в их голосе и поведении.
Я не могу сказать, что я все это принимал без внутреннего спора. Я вспомнил две строчки, которые здесь, как будто и не к месту:
«Все навыворот,
Все как не надо…»20
Очень хорошие слова. Мы знаем, такие же нелепицы были и у Гейне. И у меня было какое-то время такое ощущение. Потом этот язык начал меня убеждать, я начал в него входить, хотя по-прежнему спорил, потому [что] кое-что внутри произведения разрушало общее ощущение.
Меня не совсем убеждал ритм картины в целом в соединении с музыкой. Мне не понравились такие сцены, как любовная сцена. Здесь я присоединяюсь к Григорию Михайловичу. Я бы назвал ее алебастровой, гипсовой, для нее неудачно выбрана цветовая тональность, она кажется слишком условной, заэстетизированной, так же, как ошибкой у Эйзенштейна в «Октябре» было то, что он многое заэстетизировал. Все эти бесконечные скульптуры. Здесь это повторилось.
Мне не понравился и шутовской поклон настройщика, который может поклониться один раз, но когда он, по русскому обычаю, кланяется на три стороны, это уже игра, и непонятно, зачем она.
Есть еще вещи, которые я пока принять не могу. Может быть, я посмотрю еще и еще, и тогда, может быть, приму. Медленность, заторможенность фресок, то, каким образом они оживают—это первое, что для меня не ясно, так ли точно художники мыслят или они сами колеблются. Условный театральный жест более естественный, чем бытовой, размельченный для трагедии. Мне непонятно вообще, почему перестраховался Вишневский, назвав свою пьесу «Оптимистической трагедией». Ни один человек, насмотревшись греческих трагедий, «Макбета», не собирается пить снотворное или стреляться. Трагедия очень жизнетворна и мне непосредственно внушает, вероятно, по контрасту, желание жить. Я, пожалуй, не буду и не смею анализировать эту картину, так как я смотрел ее один раз. Но разницу с другой вещью Вишневского я хочу подчеркнуть. Вы знаете, у него была более слабая вещь, о которой он думал, что она очень революционная. Это «Последний решающий». Там есть эпизод, когда умирающий, один из тяжело раненых, почти убитый, собирает последние силы и на черной доске пишет «сто сорок миллионов минус восемь или одиннадцать» (я не помню), и в результате получается та же цифра—140 миллионов.
Этот антигуманный, возмущающий меня статистический прием здесь не возникал. Здесь люди погибали, но это было задумано не статистически, это было человечно, так, что не закрадывается мысль, что это пессимистично и жертвенно.
Мне кажется, мы не должны оценивать картину о революции слишком ходульно или, может быть, упрощенно, но все-таки должны сказать—за революцию эта картина или против. Для меня это по большому счету картина за революцию. То, что здесь авторы где-то нарушают основной принцип,например, то, что казаки—не фрески, а люди из плоти и крови, мне не мешает, хотя, может быть, нужно поспорить об этом. Но я думаю, что споры впереди и споры, видимо, будут большие. Пока этот вопрос мы оставим в стороне.
ГУКОВСКИЙ М.А.21: Я также, как и Арнольд Янович, был сначала резким противником этого сценария и два раза высказывался против него и не потому, что мне не нравилась поэма Ольги Федоровны Берггольц, и не потому, что мне не нравился сюжет, а потому, что я не мог себе представить, как такую высоко поэтическую тему можно поставить в кинематографе.
Я представлял себе сразу обычные уличные сцены, вначале Обуховский завод, снятый в натуре, затем Московский вокзал, тогда Николаевский вокзал, снятый в натуре, ряд других натурных съемок, которые мы видим сотни и тысячи раз с экрана, и мне казалось, что все это не говорит тем языком, которым сегодня, к 50-летию Октябрьской революции, можно и нужно говорить о ее первых днях.
Тем паче все это было мне особенно чувствительно, что я здесь, кажется, единственный, кто мог бы быть на месте этого молодого рыжеватого парня, потому что я в те дни жил за Невской заставой и возраст мой был такой же, как у этого парня. И потому, что для всех людей этого поколения, доживших до столь почтенного возраста, то, что происходило тогда, овеяно какой-то необычайно высокой поэзией, которая была бы несовместима с обычным экранизационным подходом. И я боялся, что это будет профанация того высокого, что в действительности имело место.
Должен сказать, что я сейчас полностью признаю свое поражение. Режиссеры и весь творческий коллектив нашли тот путь, который это высоко поэтическое произведение донесло именно как поэтическое произведение.
Если пытаться подыскать жанровую характеристику, я бы сказал, что это реквием по одним из первых погибших в революцию, а писать реквием в бытовой манере нельзя. И он весь написан высоким слогом, который заставляет каждого настраиваться на соответствующий лад.
Здесь многие товарищи применяли такие слова: «я сужу об этой картине», «я расцениваю эту картину».
Мне по законам кинематографическим не хочется ни о ней судить, ни ее расценивать. Мне кажется, что это такое поэтическое произведение, которое можно расценивать и о котором можно судить лишь через 5–6 дней, продумав его. Сделать это сразу после просмотра невозможно. А я должен сказать, что я смотрю картину в четвертый раз и, казалось бы, я мог бы ее оценить. Но мне этого делать не хочется, потому что картина настраивает зрителя, даже смотревшего ее в четвертый раз, на высоко поэтическую и высоко героическую ноту. И, мне кажется, что каковы бы ни были просчеты этой картины, каковы бы ни были ее дефекты, а они, несомненно, присутствуют,—это в ней главное. И я глубоко убежден, что наша молодежь поймет и оценит тот своеобразный, высоко-поэтический язык, которым сделана эта картина. И это в ней главное, потому что большинство наших юбилейных картин построены в такой будничной, бытовой манере, что заразить кого-то они вряд ли смогут. В них придраться не к чему, но выйдешь из кино и пойдешь совершенно спокойно в кафе есть мороженое или пить водку в соответствующее заведение. После этой картины такой ассоциации не появится.
Эта картина будит, будоражит, вызывает самые высокие эмоции, самые высокие настроения, то есть то, что нужно сегодняшнему зрителю.
Здесь говорили об Иванове, Шифферсе, Щеглове, но не сказали ничего о композиторе22, который сделал замечательную работу, создал особый ритм и темп всей картины. Сочетание современной музыки с несколько старинным менуэтом воспринимается необычайно остро и приятно. Я думаю, что картина так выдержана в едином темпе и ритме, что резать ее вряд ли возможно.
Да, в картине есть к чему придраться и даже, может быть, ко многому. Но я думаю, что дело не в этом. Исправление такой картины, упруго-музыкальной, только послужит худшему, если бы даже сюжетно это и было бы желательно. Я бы буквально ничего не трогал, так как боялся бы нарушить тот твердый ритм, которому подчинено это настоящее художественное произведение. Особенно мне не хотелось бы трогать последнюю сцену. Она, видимо, не дошла до того товарища, который о ней говорил. Ведь эта сцена—итог всей картины, это встреча старого, безнадежно мертвого мира и нового мира. Один идет назад, а другой идет вперед. Причем умирающий мир в своей жестокой звериной трагедии прижимает красный платок к груди. Это великолепно, это недидактично, это необычайно лаконично. То, что найден такой конец фильма, о котором мы все заботились, это тоже большая находка постановщика23.
Мне кажется, что картина, несомненно, вызовет споры, но это и доказательство того, что это произведение искусства. Если произведение искусства никаких споров не вызывает, значит это рядовое явление, а эта картина не рядовое, а выдающееся художественное явление.
ЛЕБЕДЕВ Н.И.24:Товарищи, после первого просмотра, конечно, очень трудно высказать все мысли и, тем более, точно и правильно. Уж если Матвей Александрович после четвертого просмотра не смог сформулировать свои окончательные соображения, понятно, что после первого просмотра высказаться очень трудно.
Искусство не живет без поиска, всю жизнь искусство совершенствуется благодаря поиску, находкам, открытиям. Мне кажется, что эта картина и принадлежит к разряду тех произведений искусства, которые находятся на пути очень большого, в наше время, поиска.
У меня сложилось такое впечатление. Когда кончился фильм, у меня было ощущение, точно я вышел с выставки. Вот был на выставке, посмотрел выставку тематическую, необычайно интересную, взволновавшую меня, я просмотрел ее с начала до конца, а выставка, видимо, была построена сюжетно, причем выставку я смотрел при необычайном воздействии на меня музыки.
Музыка, по-моему, очень большой компонент фильма. И под влиянием музыки все оживало. Такое впечатление, как будто все статично, в то же время происходит проникновение и в образы героев, и в их поступки и события. Как-то проникаешь через эту статику, и это является чем-то новым. Музыка настолько сильна, что некоторые куски показались мне в музыкальном отношении сильнее изображения. Мне казалось, что изображение дополняет музыку. Там, где музыка идет на чистых пейзажах, там, где даны горы, вода, где не происходит действие—это одно, но в общем, для меня музыка в данном случае была большей доминантой, чем изображение. Музыка и изображение слились воедино, но при превосходстве музыкальных кусков.
Мне кажется, что Александр Гаврилович, которого я знаю очень давно, знаю его манеру работать, знаю его стиль работы, сделал очень крупный шаг вперед. Это очень радостно, радостно, что это происходит на таком участке его жизни, когда очень трудно это делать. Надо сказать, что Александр Гаврилович на наших Художественных советах в разговорах о сценариях и картинах, всегда дает направление к открытию чего-то нового. Он часто говорит: «Нельзя застаиваться, нужно новое». И вот сейчас он показал путь к новому, путь очень мужественный, смелый и путь очень благородный. Трудно сказать, как будет смотреть картину зритель. Может быть, зритель не сразу раскусит эту картину, может быть, она не сразу будет понята, не сразу будет понята поэтика этого фильма.
Не говоря о блестящей работе оператора, художника и всего коллектива, мне захотелось снова вернуться и сразу же посмотреть картину снова. Следовательно, картина такой сложности, которая потребует от зрителя не-которого мужества, чтобы в нее всмотреться и до конца ее понять.
Здесь многие товарищи говорили о просчетах. Если говорить о сцене «Муж и жена» (так она называется, а не любовная сцена), то не вся она не-приемлема. Там есть что-то лишнее, она в стиле картины вначале—человек сидит на камне у реки, подходит жена, а когда начались подробности, она утратила свою монументальность.
Я считаю, что коллектив сделал очень большой и мужественный шаг в области, я бы сказал, нового открытия в киноискусстве. Я, может быть, ошибусь, но в тридцатых годах был режиссер Калеринцев25, я видел его первую картину—«Прометей», где пашет крестьянин, все сделано на дереве26. Вот сейчас мне вспомнилась эта картина, хотя я видел ее лет сорок тому назад. Там тоже был поиск, и я вспомнил по ассоциации эту картину тридцатых годов. Кинематограф все время живет в поиске, и это явление очень отрадное.
ДУДИН М.А.27: Когда потух экран, и зажглись лампионы в зале, мне не хотелось вставать и хлопать в ладоши от восторга, мне хотелось просто встать по команде «смирно» и надолго задуматься над всем, что было на экране, что было в жизни, провести какие-то аналогии и заглянуть немножко и в себя и через себя в будущее.
Я, может быть, неискушенный зритель, но я впервые видел, как поэзия выходит на экран в эпическом размахе. Может быть, где-то мы немножко разучились понимать символику. Да и в сцене «Муж и жена», когда она купается в этой бурлящей реке времени и выкрикивает всему миру: «Я люблю!»—это тоже можно воспринять как символ и очень широкий. Тут можно спорить, но можно встать и на эту точку зрения.
Да, это плакатно, но плакатно в том хорошем смысле слова, как мы воспринимаем первые плакаты революции, окна РОСТА. И тут выступает наодин из первых планов очень удачная работа оператора. Все снято очень отчетливо, ясно, точно. Это необычная картина и, как многие говорили, и путь-то у нее может быть очень необычный. Но мне кажется, что она не настолько открывает позабытое, сколько открывает дорогу дальнейшему.
До сегодняшнего дня я видел только на три четверти отснятый материал, и мне очень захотелось тогда про себя поверить, что из этой картины может получиться нечто очень заметное на фоне нашего сегодняшнего киноискусства. И когда я сегодня увидел весь логически выстроившийся материал, мне стало хорошо от того, что я не ошибся в своих предположениях.
Можно и нужно, конечно, говорить здесь и о недостатках.
Мне, например, кажется, с первого просмотра, что ритмический ход картины, ритмический и логический ход развертывания действия под конец где-то уж очень убыстрен, и поэтому от высоких трагедийных символов это немножко снижено. Это мне показалось. Для того чтобы разбирать как-то детально, нужно посмотреть эту картину не один раз. Во всяком случае, эта картина не может оставить человека, посмотревшего его [так в тексте—П.Б.], равнодушным. В этом очень большая заслуга всего съемочного коллектива.
И.И. ГОМЕЛЛО28: Мне кажется, что эта картина интересна и радостна. Радостна тем, что это поиск, а поиска нам, к сожалению, не хватает. Поэтому картина вызывает огромное уважение к труду, который проделан коллективом, громадный интерес и вместе с тем вызывает целый ряд чрезвычайно интересных мыслей.
Мне кажется, что это очень важно. Причем мыслей не только по данному произведению, но мыслей, которые связаны с путями развития нашего искусства. Мы можем долго спорить о частностях картины, о взаимоотношении поэзии и драматургии в кинематографе, много спорить о возможностях цвета в кинематографии и т.д.
Замечательно, что эта картина послужит, по-видимому, надолго поводом для серьезных и горячих разговоров.
Я, как и Г.М.Козинцев, не могу сказать, что мне эта картина ближе, чем «Солдаты» А.Г.Иванова. Мне та картина ближе. В той картине замечательно то, что Александр Гаврилович, пользуясь терминологией Маркса, шекспиризировал в этой теме, которая была дискредитирована рупорами и внешним величием [так в тексте—П.Б.]. Это большое качество недостаточно использовано в этой картине и иногда даже встает в противоречие. Но я повторяю, что это сделано чрезвычайно интересно. Все разговоры, которые были до этого и сводились к боязни формального решения, оказались бес-почвенными. Эта картина замечательна тем, что все идет в плане поиска от глубины души художника, от его самых больших художнических глубин.
Это очень важно и заставляет уважать это произведение, хотя в нем есть то, с чем я не согласен. Григорий Михайлович Козинцев уже назвал несколько кусков, которые «выскакивают» из стилистики этой картины. Это верно. Можно, вероятно, найти еще другие мелочи, которые вступают в противоречие с общим стилем картины.
В картине есть сцена, о которой говорилось как о самой интересной,—сцена пахоты. Но мне кажется, что здесь существует какой-то неправильный взгляд на труд. Труд тяжел не сам по себе, а отношением к труду. Когда труд подневольный, он тяжел, а когда труд свободный, он радостен. Здесь, в этой картине трудность физическая переходит во внутреннее состояние. Тут есть какая-то страшная изможденность трудом.
(О.Ф.БЕРГГОЛЬЦ:Вы хотели бы, чтобы они хохотали.)
Я хотел, чтобы они радовались, несмотря на все трудности, а они страдают.
(О.Ф.БЕРГГОЛЬЦ: Они сопротивляются и даже из-под тягла дают отпор врагу. Вам надо еще посмотреть, и вы поймете.)
Возможно.
У меня это вызывает противоречивое чувство и, тем более, в сопоставлении с именем Ленина, как это сделано в картине. Вся сущность ленинского учения о труде—это радостный труд и радостное отношение к труду. Завоевания революции—это завоевание радостного труда. В этой картине я усмотрел противоречие.
В основном, мне кажется, что картина чрезвычайно интересна, и я совершенно не понимаю, как можно говорить о невозможности трагедии. Мне кажется, что это абсолютно закономерно—и трагический настрой картины, и ее звучание, как реквиема, весьма значительно, и я совершенно согласен с Леонидом Николаевичем Рахмановым, что это может вызывать только самые оптимистические чувства и настроение. Картина в целом эту задачу выполняет, а сцена пахоты вызывает у меня сопротивление, она кажется мне выходящей из общего трагедийного оптимистического строя картины.
Продолжение следует...
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:34 | Сообщение # 13 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| «ПЕРВОРОССИЙСКА НЕТ—КОММУНА ЗРЕЕТ»
Объединенное заседание Художественного совета студии и Второго творческого объединения
Просмотр и обсуждение фильма «Первороссияне»
(продолжение)
ГОЛОВАНЬ И.П.29: Мы обсуждаем сегодня итог работы, которая делалась несколько лет. Сценарий о первороссиянах год за годом значился в тематических планах студии, но дело, однако, долго не двигалось с места. Нужно отдать должное членам второго творческого объединения, И.Н.Тарсановой30, в частности, она сумела убедить Ольгу Федоровну Берггольц в том, что студия действительно горячо заинтересована в этой ее работе, они были терпеливы и настойчивы одновременно, собирали сценарий буквально по страничкам и все же собрали, довели до конца очень серьезный и значительный труд.
Нужно отдать должное А.Г.Иванову: сделав свой выбор, он, взялся за создание фильма, сложного двойной сложностью, потому что если вообще не просто вести сегодня, не повторяясь, рассказ о революции, о ее времени и ее людях, то тем более трудно вести такой рассказ на основе сценария-поэмы.
Естественно, что эта работа потребовала особо настойчивых поисков в области формы. Эксперимент в данном случае не каприз и не прихоть, к нему постановщика обязывали те специфические трудности, которыми изобиловал своеобразнейший сценарий Ольги Берггольц, где документальность факта причудливо сочетается с вольной поэтической мыслью, широкой и, подчас, неожиданной поэтической ассоциацией.
Манера, в которой поставлен фильм, для одних близка, для других чужда. Иначе это, вероятно, и быть не может, и все наши суждения в этой области неизбежно отражают, прежде всего, личные наши пристрастия, вкусы, симпатии, быть может, и предубеждения.
Но сделанный в той манере, в которой он сделан,—доносит ли фильм смысл, существо и дух той истории, которая 50 лет назад принадлежала реальной жизни и которая легла в основу и поэмы Ольги Берггольц и ее сценария?
Именно этот вопрос, по-моему, должен нас волновать сегодня прежде всего. И уважение к огромному труду многих людей, вложенному в картину, а также к молодой смелости и готовности идти на риск не очень молодого человека, обязывают отвечать на этот вопрос вполне искренне, хотя, разумеется, и здесь с неизбежной субъективностью восприятия.
Первую коммуну на Алтае пытались построить в семнадцатом году прекрасные люди—очень смелые и чистые душевно, умевшие и мечтать, и работать, и жить ярко, и умереть—когда пришлось—героически. О них написала Берггольц.
Есть ли они в фильме? Есть. Гремякин, Люба, Алеша—люди живые и яркие—при всей условности манеры, в которой они показаны. В их подвиг веришь—и это весьма существенно. Да и другие первороссияне… Вспомните сцену Интернационала, косьбу, молчаливое горе на пожарище—это не только запоминается, это волнует.
Нелегкая задача—изобразить на экране гибель подобных людей таким образом, чтобы не вызвать известного протеста в сердцах зрителей, чтобы мы признали горе и трагичность, но все же закономерность этой гибели. И эта задача, на мой взгляд, также далеко не безуспешно решена в фильме. Мы ощущаем нравственную силу, несломленность тех, кто за тысячи километров от родного Питера отдает свои жизни за революцию, за ее идеалы.
Но здесь, однако, уже следует оговориться. Да, гибель коммунаров-первороссиян не назовешь бессмысленной, потому что умирают они с той же чистотой, с тем же внутренним накалом и верой, с которыми существовали. Таких людей не забывают, а память—это бессмертие.
Но подвиг реальных коммунаров, а также тех, что живут в поэме Берггольц, не только в верности идеалам, не только в стойкости перед врагом. Они до конца делали важнейшее дело своей жизни—революцию. Они открыто создавали коммуну, пока было можно, а когда стало нельзя—вновь, как когда-то, создали свое подполье и через него осуществляли все ту же задачу, приобщая к революции окружающих их людей. Именно поэтому писала Берггольц:
«И тихо, грозно ширится подполье…»
А так же:
«Первороссийска нет—коммуна зреет».
И именно потому существуют в поэме такие важные строки:
«Наутро в селах началось восстание
Его возглавил Кеша Боровой…
И встали восемьдесят шесть ячеек
В назначенный погибшим штабом срок».
Причем не вдруг, не внезапно все это произошло. Уже там, в соседстве с враждебной казачьей станицей, делали свое дело коммунары. К ним пришел не только Кеша Боровой, в соху рядом с Гремякиным впрягся мужик (не в фильме, а в поэме), который затем привел им свою лошадь, и ещепошли, потянулись к ним люди потому, что «Знобящая, пьянящая тревога вонзилась в их дремучие сердца».
Кеша Боровой в фильме существует, но он мало приметен, а должен был бы олицетворять ту грознейшую в глазах кулаков-староверов силу, которую они хотят уничтожить и которой смертельно боятся. Не просто за чуждые им революционные идеалы губят коммунаров казаки—они схватываются насмерть с теми, кто активно и неустанно переделывает вокруг себя жизни. Слова Гремякина о советской власти, которая будет завтра на Алтае, если ее нет еще здесь сегодня, в фильме воспринимаешь главным образом как характеристику образа жизни самих коммунар: это они будут жить тут по законам советской власти.
На экране пылают подожженные дома первороссиян, но был ведь и другой пожар, грозный уже для врагов революции, хотя и невидимый. Его жар мы должны были бы почувствовать отчетливей.
В фильме после нескольких просмотров и обсуждений материала, предшествовавших этому художественному совету, произошли некоторые небольшие и, однако, существенные перемены. Точнее стали реплики, не-сколько смягчена жестокость эпизода пахоты, зазвучали новые строчки стихов, они придали большую законченность и определенное настроение сцене отъезда коммунар из Питера.
Но мне вообще кажется, что этот отъезд и все, что ему предшествует, могло быть решено в фильме в иных тонах и красках, я бы сказала—несколько добрее. Да, в фильме есть сильная сцена на Марсовом поле—революция хоронит своих героев, тех «жертв борьбы роковой», о которых и была сложена известная песня. Эта сцена выразительна и взгляд Гремякина, и все его сурово-скорбное лицо трудно забыть. Но фильм естественно лаконичнее, чем жизнь, и даже чем поэма, которая послужила его основой. В нем ведь нет той очень светлой, теплой «домашней» сцены, где сидят над проектами будущей Коммуны первороссияне и где понятнее становится, что—«вот так они мечтали—все чудесней, все пламенней», так что под конец сама собой возникает песня и «рвется из распахнутых сердец».
Эти люди уезжали не просто сеять хлеб для голодного города—для этого не надо было отправляться в такую даль, о чем и говорит им Ленин, они ехали осуществлять свою мечту о счастье, о жизни на новых началах, о красоте. Сейчас скорее прочитывается их самоотверженная готовность исполнить свой долг. Я думаю, что и сильная, истинно трагическая последняя новелла фильма, и вся его идея в целом только выиграли бы, если бы в первой части было больше света, сильнее прозвучало бы утверждающее начало.
Перед нами произведение, сделанное на том уровне поиска, размышления, выдумки и одновременно точного расчета, на каком, к сожалению, делают у нас пока немного картин. Принимая его полностью, или не полностью, к нему все равно необходимо отнестись со всей серьезностью и уважением.
МОЛДАВСКИЙ Д.М.31: Товарищи, в отличие от подавляющего большинства здесь присутствующих, я видел фильм очень много раз, от первого до последнего кадра, а поскольку я знаю и поэму О.Берггольц, и сценарий, в общем, прошел все этапы этого нелегкого пути.
Надо сказать, что [фильм] этот экспериментальный. Таким он и был задуман, таким он и осуществлен. Можно говорить лишь о том, в какой степени этот эксперимент удался.
Определяя задачи этой работы, Александр Гаврилович Иванов говорил: «Наша задача—найти средства выражения образного, поэтического слова, которое само по себе перейти в зрительный ряд не может. Мы стремились и стремимся в нашей работе показать достоверные исторические события, но показать их не натуралистически, следуя известным фактам, а найти те морально-этические проблемы, которые были бы общими для героев-первороссиян и для нашего зрителя.
Мы хотели бы видеть свое будущее произведение партийным в самом высоком смысле этого слова. Оно должно быть действенным, гуманистическим и—без этого не стоило бы браться за дело—подлинно новым».
Мне, по понятным причинам, трудно давать оценку этому фильму, но, мне кажется, что именно таким в целом фильм и [дальше, вероятно, пропущено—П.Б.].
Меня очень волновали и интересовали выступления товарищей, говорящих здесь о фильме. Мне даже понравились те выступления, которые как-то не приняли эту форму. В конце концов, картина новая и было бы странно, если бы все голосовали сразу «за». Я знаю, что есть люди, которые до сих пор не любят Маяковского. Я отношусь к этим людям подозрительно, но допускаю их существование…
(КИСЕЛЕВ И.П.:Почему вы исключаете возможность свободного высказывания? Невежественно обвинять людей, у которых может быть другая точка зрения…)
Я говорил о Маяковском по аналогии.
Фильм, как мне кажется, идет в русле поэзии социалистического реализма. Он новаторский и партийный в своей основе и интересен для меня еще тем, что он связан с одной очень важной традицией.
Здесь товарищи говорили о том, что этот фильм связан с плакатами РОСТА, с действиями первых послереволюционных лет. Это совершенно верно, но есть еще одна связь—связи с народным творчеством.
Если мы внимательно перечтем Маяковского, мы увидим, как явственно проступает такая, казалось бы, странная, связь его с народной частушкой или народным импровизационным театром.
Авторы кинофильма постарались найти собственный свой путь интересного, режиссерского зрительного решения. От русской иконописи и от лубка не в плане воспроизведения отдельных их деталей—такой путь тоже вполне возможен—в нем одна из причин успеха постановщика кинофильма «Катерина Измайлова»32, от плакатов РОСТА, от живописи самого начала революции шло художественное видение фильма.
Была нарушена заманчивая перспектива этнографической точности—обобщенные образы староверов и обобщенные образы казаков и обобщенные образы коммунаров были вписаны в эстетику философских категорий.
Быт, как таковой, остался за порогом, то есть отдельные его черты иногда оживают на полотне, но только для той необходимой «узнаваемости», без которой восприятие было бы чрезмерно затруднено.
Впрочем, создатели «Первороссиян» и не ставили своей задачей идти на поводу у зрителей. Они хорошо помнили слова В.И.Ленина об одном поэте первых революционных лет: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди»33.
Они помнили и ленинские слова об искусстве и массах, записанные Кларой Цеткин: «Искусство,—говорил В.И.Ленин,—должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их».
Поднимать, воспитывать, быть впереди… Это черты передового советского искусства. И не случайны они в работе А.Г.Иванова, который как художник при очень четком и определенно выраженном миропонимании никогда не замыкался в кругу определенных эстетических решений.
Г.М.Козинцев правильно установил традицию фильма, связав его с традицией 20-х годов. Но, думаю, что в вопросе об юродивой он не прав. Она—в этой традиции.
Я напомню тов. Гомелло юношеский детектив «Транспорт огня» и памфлет «Женитьба Яна Кнукке», фантастический и в то же время весьма земной кинофильм «На границе», правдивая и суровая «Звезда», лаконичный, предельно простой по внешнему рисунку, но очень глубокий и психологически углубленный кинофильм «Солдаты»—все это произведения весьма различные34. Впрочем, их объединяет поиск. В «Транспорте огня» мелькают страшные маски, гротесковые формы внедряются в «Женитьбу Яна Кнукке», люди из «Солдат» при всей их реалистической точности и поэтической ясности вырастают до символов отваги, верности долга.
В кинофильме «Первороссияне» многие из этих черт уже в новом качестве проходят перед зрителем. В новой работе А.Г.Иванова оказалось многое—здесь и поворот к той эстетике, которая создавалась на его глазах в годы творческой юности и которая с «Окнами РОСТА», с полемикой вокруг выставок и новых постановок, со спорами о путях кино затрагивала и его; здесь и печальная констатация факта, что старая форма уже не способна вместить в себя подлинно революционную тему, что зритель—речь идет об ищущем, думающем, творчески воспринимающем искусство—уже не верит нам на слово и требует не наименований, а раскрытий тем. Просчеты с некоторыми историко-революционными кинофильмами в нашем же объединении подтвердили эту мысль…35
Все чаще в разговорах на объединении заходил вопрос о поисках в той эстетике, которая связана с именами новаторов двадцатых годов. Когда появился сценарий Берггольц, А.Г.Иванов отмел «путь, что был протоптанней и легче»36—путь «средне-реалистического» показа тех событий, свидетелем которых он был.
Войти в эстетику картины не легко. Но, войдя в нее, зритель увидит, что к бушующим на экране стихиям огня, воды, к просторам неба и высотам гор прибавляется стихия мужества, высота духа, простора революционной воли.
Он поймет, почему красные и черные гробы на похоронах жертв революции напоминают бруски расплавленного металла, и догадается, почему алое пламя первороссиян, которое выносит мальчик, пылает на фоне раскаленного металлического потока к заводскому цеху
Ему—этому зрителю—станет ясно, что крупные планы не только дают возможность прекрасным актерам дать точнейшую психологическую характеристику героев, но и подразумевают возможность их прямого разговора со зрителем, обращение к нам, людям сегодняшнего дня. Пусть об этом думают зрители. Путь прислушаются к музыке, пусть услышат в ней мелодии времени уже в нашем сегодняшнем восприятии.
Пусть поймут, почему так врезается в память скрип шагов на снегу и шелест кос, почему вдруг цвет стал полноправным компонентом, формирующим настроение и видение мира.
Буржуазное искусство стремится показать людей разобщенными и неспособными к подвигу. Мы показываем коллектив [и его] подвиг.
В этом кинофильме нет хитросплетений сложного сюжета. В нем нет подчеркнутой точности воспроизведения, нет подделки «так в жизни бывает». А есть в нем вера в то, что зритель, воспитанный на тех же идеалах и тех же поэтических нормах, что и создатели кинофильма, будет сопереживать, сочувствовать, будет озарен сиянием подвига тех давних лет, которые, как сказала Ольга Берггольц, стали «священной историей нашей революции». Мы хотели сделать партийный фильм, надеюсь, он получился именно таким.
БЕРГГОЛЬЦ О.Ф.: Во-первых, я выражаю глубочайшую, нижайшую благодарность коллективу во главе с Александром Гавриловичем, который поднял эту тему и вынес ее на экран. Мне самой уже стало казаться, что эта тема не фотогенична, хотя, прочитав мою поэму в 1956 году в Переделкино, именно Александр Довженко—большой мой друг—сказал: «Да ведь это же готовый сценарий!» Я отлично понимаю, какой это был тяжелый труд, поднять эту вещь, к тому же отношения со вторым объединением у меня были неровные, нам не раз приходилось ссориться и резко выступать друг против друга и очень тяжело разговаривать и, тем более я рада сказать, что труд увенчался настоящей картиной.
Тут все время употреблялось слово «поиск». Надо сказать, что я не люблю это слово. Писатель, скажем, написал роман в 40 печатных листов, а потом говорят: писатель «пытался» что-то написать. Но он все же что-то написал. Был поиск, был эксперимент, а в результате что же, он состоялся?! У меня от «поиска» и «эксперимента», от «писатель пытался» ощущение, как от чего-то пустопорожнего. А здесь это не кончилось какой-то идеологической икоткой, а большим полновесным фильмом.
Слово «поиск» нравится перестраховщикам. Лучше сказать, что писатель пытался, чем сказать «писатель преуспел». Это более ответственно. Мы не «пытались», а что-то сделали и, главным образом, сделала группа под руководством Александра Гавриловича Иванова и его помощника Евгения Шифферса. Они, повторяю, не только пытались, но они сделали.
И еще по поводу терминологии. Тут, хотя и глухо, а я это слышала в гораздо более открытой форме, звучали два обвинения. Я беру эти слова в кавычки. Обвинение в трагедийности и жертвенности.
Я никак не могу понять, с каких пор слово «трагедия» стало ругательством. Оно стало ругательством во времена сталинщины. Скажем, трагедия Севастополя в стихах «Верность» обсуждалась на Комитете искусств и в заключении была сделана такая резолюция: «очень хорошо, просим сделать трагедию повеселее и нельзя ли, чтобы в третьем акте были танцы». Я сказала, что сделать трагедию повеселее невозможно, а, тем более, с танцами, эта задача не под силу даже Шекспиру. Эту боязнь слова «трагедия» считаю просто пережитком. Еще Горький говорил: «Наша трагедийная прекрасная эпоха». Ленин этого слова не стеснялся. Он говорил: «Не в отчаянии мы несем неслыханные жертвы, но в борьбе». Ни слова «жертва», ни слова «трагедия» никто никогда не боялся. Словами «Мы жертвою пали» начинается одна из лучших песен Революции. «Поле жертв революции»—так называлось поле, которое сейчас почему-то перекрестили в Марсово поле. И опять-таки, совершенно не стыдно жертвовать во имя революции. Человек ведь не совершает этим решительно ничего дурного. Поэтому я лично отвергаю все эти странные обвинения (мягко выражаясь) в трагедийности и жертвенности и воспринимаю это как похвалу.
Да, люди знали, на что они шли. Они не очень хорошо себе представляли, как все будет, задумав строить почти утопическую коммуну в годы лихолетья. Они пали жертвами гражданской войны. Ну и что тут соромного? Почему же надо начинать с чечетки? И кстати, насчет гробов. Мне очень понравилось это начало фильма, режиссеры дали это в великолепной манере. Это действительно реквием.
Пусть молодежь знает, что революция начиналась с жертв и что завоевания революций даны ценой жертв, а не ценою чечетки. Как же иначе мы будем воспитывать молодежь? Что же мы будем ей говорить, что все это вытанцовывалось каблучками?!
О трагедии я уже говорила. Трагедия, как считал Пушкин, это наивысшая форма поэзии.
Сказать, что я не имела претензий к картине, я не могу, но, во всяком случае, в целом она получилась настолько цельной, компактной и революционной, что у меня не поворачивается язык придираться к мелочам. Один этот ребенок, который идет по снегу, над которым гремят пули,—это же бесстрашный, прелестный ребенок.
Много здесь было заумных разговоров насчет символики в современном искусстве и, в частности, в кино. Мне кажется, что символ и правда, в основном, всегда совпадают, потому что те 125 блокадных грамм хлеба, которые мы получали,—это скорее не еда, а символ. И здесь это легендарное, священное писание нашего народа, в любом его жесте и повороте—это и символ, и знамя, и быт и бытие, а тогда сливались быт и бытие. Мне кажется, что в картине достигнуто слияние быта и бытия.
Говорили о фресках. Говорили правильно. Могут ли фрески ожить и заговорить? А почему нет? Мне кажется, могут. Это доказала картина. Эти прекрасные лица и, я бы сказала, лики первых энтузиастов, коммунаров! Пусть они глянут своими глазами в зрительный зал, пусть взглянут на них зрители, достаточно развращенные серыми картинами облегченного типа, пусть они поглядят друг другу в глаза, а потом можно еще раз поговорить.
ИВАНОВ А.Г.: Начиная работу над картиной, мы знали, что наше решение будет иметь защитников, будет иметь и противников. И это естественно, так как предложенное нами решение является результатом эксперимента, а всякий эксперимент чреват неожиданностями и навряд ли всеми без исключения может быть в результате принят безоговорочно.
Во имя чего вздумали мы экспериментировать?
Попытаюсь объяснить.
Литературный сценарий О.Ф.Берггольц знаком многим. Он был опубликован в печати.
Надо сказать, что это произведение было в меньшей степени сценарием для кино, а в большей являлось хорошим литературным произведением для чтения.
Чем больше мы с редактором сценария И.Н.Тарсановой вчитывались в написанное Ольгой Федоровной, тем больше начинали понимать, что поставить картину по нему дело совсем не простое.
А с другой стороны, оно было вроде и не таким уж сложным.
Надо было, согласовав с автором значительные купюры (сценарий был огромен, но в то же время по существу заложенных в нем главных драматургических узлов на серийность не тянул), а затем, проделав эту довольно знакомую работу, перенести остальной материал в обычную форму рабочего сценария, наполнить его обычным грузом исторических, бытовых деталей, оставить обычное многословие, которым в достаточной мере грешат многие наши картины, взять обычного художника, который построил бы нам обычные стандартные декорации, взять оператора, умеющего обычно снимать на цветную пленку, пригласить, наконец, обычного мелодийного композитора и, оснастившись таким образом, сделать картину по всем законам выработавшегося у нас стандарта.
Окончание следует...
|
| |
|
|
| ИНТЕРНЕТ | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:35 | Сообщение # 14 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 4190
Статус: Offline
| «ПЕРВОРОССИЙСКА НЕТ—КОММУНА ЗРЕЕТ»
Объединенное заседание Художественного совета студии и Второго творческого объединения
Просмотр и обсуждение фильма «Первороссияне»
(окончание)
Вы знаете: так нам не захотелось пойти по этому проторенному пути и поставить еще одну картину из тех, о которых нам в прошлом году рассказывал на партийном собрании т. Чекин37.
Он говорил, что в Москве в прошлом году было совещание представителей закупочных комиссий разных стран. Показали им, уж точно не помню, не то 30, не то 25 картин. Купили они только 7.
А остальные?
Они, видите ли, им не подходят. Они, де, смотреться у них не будут, они мало интересны. Материал их вторичен, они перепевают события давно известные, словом зритель на них не пойдет!
Ну что же… им, может быть, и действительно неинтересны эти картины, у них другие вкусы, иной подход к зрителю. А для нашего зрителя? Оказывается, они не приняты и нашим зрителем.
Нет надобности перечислять названия этих картин. Они хорошо всем известны по большому количеству критических откликов в печати, по воплям Главкинопроката, который на них недобирает многие миллионы. Не-которые картины, а есть и такие, не окупают даже стоимость своего производства.
Это бедственное положение уж в достаточно жестоком свете было нам понятно и год назад, когда мы начинали работу. Мы пришли к пониманию, что не имеем права повторять ошибки, допущенные очень опытными и по своему талантливыми мастерами, потому что эти ошибки кроме финансового ущерба государству, приносят еще и политический, идейный ущерб.
Ведь большинство забаллотированных зрителем «боевиков»—это картины на историко-революционные темы, на темы политические, многие с участием Ленина.
И эта важнейшая для каждого советского художника тематика проваливается, дискредитируется в самой своей основе.
Зритель отказывает этим важнейшим в наших планах картинам в доверии. Он просто их не смотрит.
Таким образом дискредитируется самое, я бы сказал, святое. Был момент, когда мы растерялись. Стандарта делать не хотим, а как по-другому? У многих мы искали, просили совета. Но и ряд наших режиссеров, к которым я обращался, два заседания секции драматургов в Союзе результата в смысле совета не дали.
Были разговоры, были рассуждения—из них было понятно—фактографичность неприемлема, что она загубит картину. Говорили, что вообще-то по этому сценарию картину сделать нельзя, что ее и не следует делать, жалели меня за то, что я с ней связался. И что если и будет картина—то будет, де, скука зеленая.
И тогда мозговой центр картины: оператор Евгений Шапиро, режиссер Евгений Шифферс, художник Михаил Щеглов и редактор Ирина Тарсанова после длительных споров и глубоких раздумий пришли к убеждению, что картину эту сделать можно, сделать нужно.
Решать ее надо не в плане создания традиционной бытовой драмы, а проделать трудный, может быть, спорный экспериментальный ход.
Сценарий следует избавить от всей уже известной, вторичной, а, следовательно, необязательной для зрителя информации, исключить многословие, попытки все объяснить от А до Я, отбросить фактографическую приземленность, очистить сюжет от всего скрупулезно бытового, словом, сделать не прозаическую драму, а поэтическое, в достаточной мере условное, с большой дозой обобщения произведение, если можно сказать, картину исследования человеческих душ с введением эстетического элемента.
Вы видели картину. Она построена не по законам драмы, а по законам поэмы. Отсюда ее немногословность, длительность отдельных кусков, деление на главы, позволившее нам избавиться от дотошной и прямолинейной сюжетности. Отсюда обращение к зрителю так, как говорит в своем стихе Берггольц «От сердца к сердцу…»—глаза в глаза.
Поэтому мы не боимся показать артистов, смотрящих прямо на зрителя, делая этим приемом зрителя не только свидетелем происходящего, но и соучастником переживаемых событий, этим приемом мы оголяем события, устраняем все второстепенное.
Это и в смысле разговорного материала, в смысле второго плана, это мы делаем и в смысле декоративного оформления и, тем более, в деле использования света и цвета.
Картина строится на абсолютном доверии к зрителю—с верой в то, что он «возьмет» обобщенный поэтический образ, не убоится непрямолинейности ассоциативных ходов, не будет настаивать на соблюдении правил бытового кинематографа.
Обобщенная простота, высокая поэтическая условность—все то, что по самой сути противоположно фактографическому натурализму—определяют собой поэтику фильма.
К такой поэтике нас располагала высота избранной темы.
К этому же располагало и имя автора сценария Ольги Берггольц, таланту которой такая поэтика, как нам кажется, наиболее близка.
Это картина о Революции, об одном из подвигов, ею вдохновенных. И образ Революции предстает здесь как всепроникающее, окрылившее человеческую душу сознание новизны жизни, жизни «как в первый день творенья», ее полной несовместимости со всем, что было еще вчера, освобожденности от груза вчерашнего дня, как ощущение себя хозяином этой простой и мудрой жизни, которая начинается здесь, с этого вот дня, на этом месте.
Так входит в картину подлинно эпическое начало. Так подсказывает оно нам своеобразие необычной стилистики, в основе которой лежит стремление к углубленному и насыщенному спокойствию: статику, классические композиции, локальность в цвете.
Жизнь, возникающая на экране,—это жизнь, упрощенная до великой простоты, ограничившая себя кругом непреложных вещей и ценностей. Поэзия и эпичность в картине у нас резко сближены.
Отталкиваясь от сценария, художественные образы нашей картины прямо восходят к поэме Ольги Берггольц. Они выстроены у нас в простую и емкую систему, складывающуюся из таких понятий, как хлеб, земля, огонь костра, ребенок—из понятий опять-таки предельно простых, близких к вечным первоосновам жизни.
Еще раз: о бессмертном подвиге коммунаров-первороссиян нам хотелось бы рассказать языком не прозаическим, не разговорно-бытовым, но слогом, близким к слогу Маяковского, Петрова-Водкина, слогу Шостаковича.
Товарищи, я прошу у вас разрешения подумать съемочному коллективу над тем, что мы сегодня слышали, еще раз посоветоваться, а не бежать сейчас в монтажную и резать картину ножницами.
И в заключение, по традиции, несколько слов о постановочном коллективе.
Группа работала отлично.
В первую очередь это относится к режиссеру Шифферсу. Он был не только в полной мере творческим работником—он был и требовательным организатором производственного процесса, в чем ему оперативно содействовала административная группа во главе с директором Семеном Рабиновым38, с его помощниками Плавником39 и Мазиным.
Все они вместе решали, в довольно сложных условиях, вопросы бесперебойного производства картины. Работа Шифферса с актерским коллективом—он отдавал ему много времени на репетициях и на площадке, его дисциплинированность, его требовательность ко всем работникам группы - во время работы все время ощущалась. Потому работа шла на редкость слаженно, почти без потерь времени. В этом ему помогал весь административный аппарат, во главе которого стоял опытный, очень оперативный директор С.Я.Рабинов.
Художник Щеглов. За 40 лет работы у меня были разные художники. И все хорошие, интересные. Но этот молодой человек меня покорил своей влюбленностью в материал картины, глубиной проникновения в него, желанием не просто выполнить свою профессиональную функцию, а страстным желанием помочь режиссуре во всех, даже мельчайших вопросах, которые во множестве перед нами вставали. Он с редким терпением и пониманием поставленных задач делал очень кропотливую, занимающую много времени работу—раскадровку, набрасывал эскизы каждой сцены. Он был неутомим в своих поисках и предложениях. Он был неутомим просто физически.
Ежедневно его можно было видеть на постройках, на натуре, в павильоне. Всюду и везде мы видели Мишу Щеглова. Его умение работать с людьми дало прекрасные результаты при возведении декораций, по окраске почти каждого кадра. Нет почти ни одного кадра, за исключением панорамных планов, которые бы не подверглись обработке Щеглова и его неутомимых, самоотверженных помощниц—маляров Нади и Кати.
Отлично, организованно и дисциплинированно, безотказно и с огоньком под руководством опытного бригадира Зарха40—работала группа светотехников выполняя быстро и четко задания оператора.
Евгений Вениаминович Шапиро один из старейших мастеров операторского искусства на нашей студии.
Он быстро вошел в наш мозговой центр, понял тот единственный ключ, при помощи которого мы задумали решать нашу трагедию-быль по определению Е.С.Добина, мистерию, как ее назвала Ольга Федоровна, легенду о днях нашей молодости, трагедийный сказ о первых героях и жертвах великой Октябрьской Революции, об их величии, об их устремленности к прекрасному, об их борьбе и гибели. Так мы назвали нашу работу сами.
Надо ли говорить, что оператор Шапиро снял картину любовно, с полным пониманием режиссерского замысла, снял картину смело, по-новому, с огромной выдумкой—это все и является доказательством таланта оператора Шапиро.
Еще один преданный картине человек—композитор Н.Н.Каретников. Способности его удивительны. Нашлись товарищи, высоко оценившие его вклад в картину. По-моему, он написал отличную, современную, нужную именно для этой картины музыку.
Он был предельно оперативен, не сорвал ни одного срока, был творчески взыскателен к себе и к нам. Провел с нами всю перезапись, боролся с нами за каждый такт с позиций художника, но не оскорблялся, если видел, что при нужном сокращении материала кое-что из музыки уходит.
Отлично работала бригада звуковиков под руководством Силаева41. Вы слышали, как записана картина. Очень хорошо. Так же отлично вела работу группа гримеров под руководством Елены Борейко42. И весь съемочный коллектив во главе с начальником штаба Сергеевым43 работал хорошо. Спасибо им.
Спасибо вам за то, что вы так внимательно разобрали наш труд.
КИСЕЛЕВ И.Н.: На этом разрешите считать заседание Художественного совета закрытым.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Ед. хр. 17–19. Л. 161–224.
Машинопись
1. См. комм. 39 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
2. Добин Ефим Семенович (1901–1977)—критик, литературовед, киновед.
3. Венгеров Владимир Яковлевич (1920–1997)—кинорежиссер, бессменный руководитель 3-го творческого объединения (до 1967—совм. с Ф.Эрмлером). Поставил фильмы: «Два капитана» (1955), «Балтийское небо» (1961), «Рабочий поселок» (1965), «Живой труп» (1968), «Обрыв» (1983) и др.
4. Честноков Владимир Иванович (1904–1968)—актер театра. Снимался в фильмах: «Профессор Мамлок» (1938), «Пирогов» (1947), «Овод» (1955), «713-й просит посадку» (1962), «Зеленая карета» (1968) и др.
5. Орлов Сергей Сергеевич (1921–1977)—поэт. Автор сценария фильма «Жаворонок» (1964, совм. с М.Дудиным).
6. «Свадьба в Малиновке» (1967), реж. А.Тутышкин, композ. Б.Александров.
7. Кошеверова Надежда Николаевна (1902–1990)—кинорежиссер. Поставила фильмы: «Золушка» (1947, совм. с М.Шапиро), «Укротительница тигров» (1954, совм. с А.Ивановским), «Каин XVIII» (1963, совм. с М.Шапиро), «Старая, старая сказка» (1967), «Ослиная шкура» (1982) и др.
8. Муратов Леонид Григорьевич (1932–1994)—киновед, сотрудник сектора кино ЛГИТ-МиК.
9. «Первый учитель» (1965), реж. А.Кончаловский.
10. Шнейдерман Исаак Израилевич (1910–1991)—театровед, киновед, критик.
11. Фильм А.Иванова «Солдаты» (авторское название—«В окопах Сталинграда») был закончен в 1955 году, но вышел на экран лишь в 1956-м ограниченным тиражом.
12. В 1966 году в Государственном Русском музее состоялась первая посмертная выставка К.Петрова-Водкина. Это было одно из крупнейших явлений художественной жизни Ленинграда.
13. Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973)—кинорежиссер, художественный руководитель 1-го творческого объединения «Ленфильма» (совм. с И.Хейфицем).
14. Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951)—писатель, драматург. Автор сценариев фильмов: «Мы из Кронштадта» (1936), «Первая Конная» (1941), «Незабываемый 1919-й» (1950, совм. с А.Филимоновым и М.Чиаурели).
15. Речь идет о сцене пахоты, в которой О.Волкова играет юродивую.
16. Гликман Исаак Давыдович (1911–2003)—музыковед, искусствовед, критик, редактор «Ленфильма». Автор сценариев фильмов: «Черемушки» (1962, совм. с В.Массом и М.Червинским), «Лебединое озеро» (1968, совм. с А.Дудко и К.Сергеевым) и «Князь Игорь» (1969, совм. с Р.Тихомировым).
17. Речь идет об отце Феодосии, священнике-старообрядце в исполнении И.Краско.
18. Витоль Арнольд Янович (1922–2000)—журналист, редактор. С 1945 работал на «Ленфильме» как редактор газеты «Кадр», старший редактор сценарного отдела, главный редактор объединения. С 1962 работал в «Ленинградской правде», затем был зав. отделом культуры Ленгорисполкома. Автор сценариев фильмов: «Донская повесть» (1964), «Тени исчезают в полдень» (1971–1974, совм. с А.Ивановым), «Блокада» (1974–1977, совм. с А.Чаковским), «Веселое сновидение, Или смех и слезы» (1976) и др.
19. Рахманов Леонид Николаевич (1908–1988)—писатель, драматург, киносценарист. Автор сценария фильмов: «Депутат Балтики» (1936, совм. с А.Зархи, И.Хейфицем, Д.Дэлем), «Михайло Ломоносов» (1955) и «Явление Венеры» (1961).
20. Из стихотворения Э.Багрицкого «Происхождение»:
<…> И все навыворот.
Все как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло. <…>
21. См. комм. 55 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
22. Каретников Николай Николаевич (1930–1994)—композитор. Автор музыки к фильмам: «Ветер» (1958), «Мир входящему» (1961), «Скверный анекдот» (1966), «Бег» (1970), «Мелкий бес» (1995) и др.
23. Конечно, речь идет о первом авторском варианте финала, а не о доснятых позже и «приклеенных» из цензурных соображений кадров с памятником Ленину (подробнее—см. статью Л.Лонгиной).
24.См. комм. 50 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
25. Ошибка стенографистки. Безусловно, имеется в виду Кавалеридзе Иван Николаевич (1887–1978)—режиссер театра и кино, скульптор. Поставил фильмы: «Ливень» (1929), «Колиивщина» (1933), «Прометей» (1935), «Запорожец за Дунаем» (1937), «Гулящая» (1961) и др.
26. Вероятно, аберрация памяти. Лебедев, несомненно, описывает фильм «Ливень» (1929).
27. Дудин Михаил Александрович (1916–1993)—поэт. Автор сценария фильма «Жаворонок» (1964, совм. с С.Орловым).
28. См. комм. 64 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
29. См. комм. 40 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
30. См. комм. 19 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
31. См. комм. 18 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
32. Фильм-оперу «Катерина Измайлова» (1966) поставил Шапиро Михаил Григорьевич (1908–1971).
33. Эти слова В.И.Ленина относятся к поэту Демьяну Бедному (наст. имя—Ефим Алексеевич Придворов) (1883–1945).
34. Молдавский перечисляет основные работы А.Г.Иванова: «Транспорт огня» (1930), «Женитьба Яна Кнукке» (1934), «На границе» (1938), «Звезда» (1949), «Солдаты» (1955).
35. Речь идет, по всей видимости, о фильме Ю.Вышинского «Залп “Авроры”» (1965).
36. Вероятно, стенографистка неверно записала цитату из стихотворения В.Маяковского «Сергею Есенину» (1926). Правильно: «путь, чтобы протоптанней и легше».
37. Чекин Игорь Вячеславович (1908–1970)—писатель, общественный деятель. Главный редактор, затем—начальник сценарного отдела Главного управления по производству фильмов Министерства культуры СССР. Автор сценария фильма «Ночь в сентябре».
38. См. комм. 6 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
39. См. комм. 4 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
40. Зарх Ефим Григорьевич (р. 1927)—бригадир осветителей. Работать в кино начал в годы войны. Эмигрировал в США.
41. См. комм. 32 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
42. См. комм. 48 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
43. См. комм. 42 к дневнику и переписке А.Г.Иванова.
Публикации и комментарии Петра Багрова
http://www.kinozapiski.ru/data/home/articles/attache/290-318.pdf
|
| |
|
|
| Александр_Люлюшин | Дата: Суббота, 19.04.2014, 16:20 | Сообщение # 15 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 3346
Статус: Offline
| 25 апреля 2014 года
Киноклуб «Ностальгия» представляет
фильм №13 (29; 352) сезона 2013-2014
«ПЕРВОРОССИЯНЕ»
режиссёр Евгений Шифферс, СССР
***
Этот фильм будет показан нашим клубом 25 апреля 2014 года в 21-00 в отделе литературы на иностранных языках Липецкой областной научной библиотеки в рамках общероссийского проекта «Библионочь».
***
О фильме «ПЕРВОРОССИЯНЕ» посетитель сайта http://www.kinopoisk.ru/film/42939/
Последний шедевр революционного авангарда
Трудно припомнить другой фильм, просмотра которого я ждал бы с таким же нетерпением. Периодические поиски этой картины на просторах интернета оставались безрезультатными. Два-три чудом состоявшихся показа я успешно прошляпил. И вот, когда, казалось бы, всякая надежда уже потеряна… желанная лента, хоть и в далеко не совершенном качестве, но оказалась в сети. О чём идёт речь? Об одной из самых загадочных, многострадальных и неординарных советский картин. О ленте Евгения Шифферса «Первороссияне» 1967 г. Это фильм, в котором уникально всё: от обстоятельств создания, до истории почти сорокалетнего пребывания в забвении, от экспериментальной формы, до радикального содержания.
Знаете, бывают люди, которых непрестанно сопровождают неприятности. Так бывает и у фильмов, и «Первороссияне» — это как раз такой неудачливый фильм. Его сценарий, основывавшийся на поэме великой Ольги Берггольц «Первороссийск», казался неподъёмным любому, бравшемуся за него, в том числе и уважаемому советскому режиссёру Александру Иванову. Неожиданно выискавшийся театральный постановщик, смельчак, энтузиаст, вольнодумец и экспериментатор Евгений Шифферс, разработал настолько радикальную, ни на что не похожую концепцию фильма, что отпугнул часть съёмочной группы. Лишь «прикрытие» именем Иванова, оставшегося официальным режиссёром ленты, позволило довести работу до конца. В итоге, трудно создававшаяся картина удивила всех, и мало кем была принята. Для Шифферса же эта работа в кино так и осталась единственной.
Отчасти «Первороссияне» разделили судьбу ряда других лент, создание которых было приурочено к пятидесятилетию Октябрьской революции. Тогда планировалось встретить полувековой юбилей торжества власти рабочих и крестьян настоящим пиршеством из историко-революционных картин. Однако взгляд кинематографистов на революцию существенно отличался от взгляда чиновников. Результат столкновения позиций творцов и властей превзошёл все ожидания — 1967, 1968 годы стали рекордсменами по количеству запрещённых или ограниченных в прокате лент. Были сочтены крамольными, легли на полку и дошли до зрителя лишь в перестройку киноальманах «Начало неведомого века» Андрея Смирнова и Ларисы Шепитько, «Комиссар» Александра Аскольдова, «Интервенция» Геннадия Полоки. Со скрипом были выпущены в прокат шедевры, вроде «Седьмого спутника» Григория Аронова и Алексея Германа, «В огне брода нет» Глеба Панфилова. Одним словом, судьба каждой из этих лент сложилась непросто. Но даже в этом ряду «Первороссияне» стоят особняком. Если вышеназванные запрещённые картины ждали своего часа около двадцати лет, до второй половины 80-х, то «Первороссияне» пробыли в забвении в два раза больше. Лента, будучи ограниченной в прокате (32 копии — ничто для 240-милионной аудитории), очень быстро исчезла с экранов кинотеатров, копии плёнки были уничтожены, а единственный уцелевший госфильмофондовский 70-ти миллиметровый негатив по техническим причинам скоро стал не пригоден ни для просмотра, ни для копирования. Последнее, очевидно, явилось тем фактором, из-за которого картину не вернули зрителю в ходе перестроечной кампании по реабилитации запрещённых лент. Лишь спустя долгих двадцать лет развитие техники позволило перевести уцелевший негатив в цифру. Итого, фильм, созданный в 1967 г., дошёл до зрителя аж в 2009, спустя 42 года! Фантастика!
Что же представляет собой эта многострадальная, едва-едва не канувшая в лету картина? Что в ней такого неожиданного и необыкновенного? Во-первых, удивительна интерпретация трагичной, но, казалось бы, довольно стандартной историко-революционной легенды. Группа петроградских рабочих, похоронив павших в борьбе за Революцию товарищей, отправляется на Алтай строить коммуну землеробов. Местные казаки-староверы смотрят на объявившихся энтузиастов косо, и недвусмысленно намекают на то, что житья приезжим здесь не будет. Коммунары упорно трудятся, отступать и не думают, но вскоре повторяют печальную судьбу своих товарищей, погибая от рук злопыхателей.
История эта, разделённая на несколько глав, рассказывается в совершенно авангардной форме. Здесь чувствуется отдалённое влияние ранних лент Довженко, любимовской Таганки, живописи «сурового стиля», в первую очередь, работ Виктора Попкова. Но всего отчётливее, как ни странно, звучат «Тени забытых предков» Параджанова. Шифферс, как и Параджанов, создаёт возвышенную поэму, оду, мир которой абсолютно условен. Не удивительно, что оба художника предпочитали называть своё кино не иначе как «антикино». Так, Шифферс совершенно отрицает монтаж. При этом в его работе исключительное значение обретают композиция и цвет. Композицию он выстраивает, по чьему-то меткому выражению, так, словно «вколачивает … гвозди», уверенно и лаконично.
«Первороссияне» — это буйство цвета, такое, какое было, пожалуй, лишь у Эйзенштейна в знаменитой сцене пира во второй части «Ивана Грозного». Каждая сцена выдержана в своей цветовой гамме. Для достижения необходимого эффекта краской выкрашивались горы, поля, улицы, одежды, люди.
Удивительны и персонажи картины. Это, своего рода, возвышенные роботы, начисто лишенные каких-либо человеческих черт, и представляющие собой эдакие абсолютные воплощения тех или иных революционных идеалов. Среди исполнителей ролей фанатиков-коммунаров люди сплошь неординарные: Владимир Заманский, на роду которому, видно было написано сниматься в запрещаемых фильмах ("Проверка на дорогах» Германа, «Скорбное бесчувствие» Сокурова), Лариса Данилина, кино-карьера которой после фильма почти завершилась, Геннадий Нилов, памятный многим по роли физика в комедии «Три плюс два».
Крайне любопытна идейная составляющая фильма. Если обычно запрещённые ленты были подозрительны чересчур либеральным посылом, то здесь всё предельно леворадикально. Не зря о картине говорят, как о «манифесте революционного фанатизма» и «выплеске чистого красного безумия». Шифферс предельно бескомпромиссен в выражении коммунистической идеи, но, что самое важное, столь же предельно искренен. В этом плане работа Шифферса близка к лучшим работам мастеров революционного авангарда 20-х годов. Как и их картины, «Первороссиян» ни в коем случае нельзя назвать агиткой, потому как произведение это совершенно чисто и серьёзно, буйный пафос его держится на истовой вере. Здесь нет ни тени иронии или сомнения. Здесь торжествует глубочайшее убеждение, граничащее с религиозным умоисступлением. Одним, словом, сделан фильм необыкновенно сильно, и заставляет лишь изумиться тому, каким образом автору удалось на столь высоком уровне совместить поэзию и идеологию.
Неудивительно, что получившееся произведение оказалось настолько нестандартным, что, по слухам, не понравилось никому. Партийных идеологов в ленте отталкивала крайне авангардная форма. По этой же причине не мог одобрить фильма и широкий зритель. Интеллигенция, в основной массе своей, не могла примириться с леворадикальным фанатизмом произведения. А между тем, надо полагать что фильм, выйди он в свет и дойди до Европы, пришёлся бы очень по душе «новым левым». Уверен, Годар, в то же самое время снявший свою «Китаянку», был бы в восторге. Увы, пора для того чтобы оценить «Первороссиян» по достоинству пришла только сейчас. Будем же надеяться, что ленту ждёт достойный релиз.
История «Первороссиян» лишний раз подтверждает, что советское кино воистину является Атлантидой, хранящей несчётное количество неисследованных тайн и загадок. Как знать, быть может фильм Шифферса является лишь вершиной айсберга несправедливо забытых и уникальных творческих достижений, которые нам ещё только предстоит открыть.
10 из 10
***
|
| |
|
|
|



