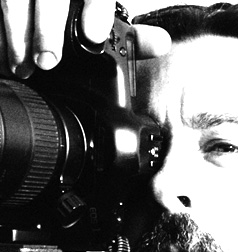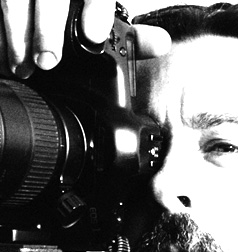|
Сергей Ливнев "ВАН ГОГИ" 2018
| |
| Александр_Люлюшин | Дата: Понедельник, Вчера, 15:43 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 3313
Статус: Offline
| «ВАН ГОГИ» 2018, Россия, 99 минут
— драма Сергея Ливнева с Алексеем Серебряковым и Даниэлем Ольбрыхским в главных ролях
Отец – прославленный дирижёр. Сын – талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далёкие люди должны будут пройти непростой путь примирения.
Съёмочная группа
Режиссёр: Сергей Ливнев
Сценарий: Сергей Ливнев
Продюсеры: Сергей Бобза, Игорь Пронин, Юлия Зайцева, Максим Павлов, Андрей Коробов, Даниэль Гитман Тадевосян, Елена Кожанова, Сергей Ливнев
Оператор: Юрий Клименко
Композиторы: Леонид Десятников, Алексей Сергунин
Художники: Эдуард Галкин, Александр Осипов
Монтаж: Алексей Бобров, Эрнест Аранов
В ролях
Алексей Серебряков — Птицын (Марк)
Даниэль Ольбрыхский — Его Величество (Виктор Гинзбург)
Елена Коренева — Ирина
Полина Агуреева — Маша
Александр Сирин — доктор
Наталья Негода — Таня
Светлана Немоляева — Тома
Ольга Остроумова — Людмила Васильевна
Евгений Ткачук — Его Величество в молодости
Савелий Кудряшов — Марк в детстве
Авангард Леонтьев — Вениамин, отец Маши
Анна Каменкова — мама Маши
Сергей Дрейден — дед Маши
Ёла Санько — Валентина Прокофьевна, мать Тани
Дуду Баухнер — Рони
Игорь Пронин — Сева
Боаз Барель — Дрор
Создатели кинокартины о своём фильме
«Иногда встречаются картины, которые действительно важны для твоего душевного состояния, работая в них ты можешь понять кто ты такой, в каком отношении ты находишься с окружающим миром, как ты отвечаешь на те вопросы, которые ставятся в этой картине.
В молодости я был кинорежиссером. Я снял два фильма. Тогда они считались успешными. В последние 20 с лишним лет как режиссер я не работал. Не тянуло совершенно. Я работал продюсером. И был на 100 процентов уверен, что сам снимать кино уже не захочу никогда. Мне нравилось продюсировать фильмы, в основном рассчитанные на массовый успех. И вдруг какое-то время назад что-то изменилось. Я все меньше и меньше стал думать о кино как о продукте, и снова, как в юности, стал рассматривать кино как возможность рассказать о том, что волнует меня лично. Наверное, это возраст.
Впервые за последние 20 лет у меня появилось очень личное ощущение к фильму, о котором я думаю. Я понял, что я не могу и не хочу продюсировать этот фильм с другим режиссером. Я хочу снять этот фильм сам. И я понял, что я не могу и не хочу думать об этом фильме в категориях продукта для кинотеатров.
Я надеюсь, что этот фильм будет нужным, поможет кому-то понять что-то о себе. Я надеюсь, что эта история будет интересна и полезна людям разных возрастов. Молодым людям, которые воюют с родителями. Родителям, которые воюют со своими детьми. Пожилым людям, чьи бои с их родителями и с их детьми уже отзвучали, но старые раны ноют, и никогда не перестанут ныть. Хотелось бы напомнить этим фильмом, что человек – существо ранимое, и больше всего болят и хуже всего заживают раны, нанесенные близкими» (Сергей Ливнев).
«Это абсолютно реальная история, которая может произойти с любым человеком. Фильм снят на высоком профессиональном уровне. Когда собирается такое количество талантливых людей, когда каждый кадр продуман, то ты наполняешься ощущением участия в большом и серьёзном кино» (Алексей Серебряков).
«Надо понимать, что это очень важно, чтобы не все в жизни было для денег. Надо работать вместе с кем-то интересным» (Даниэль Ольбрыхский).
Интересные факты
Съемки фильма прошли в 2017-2018 году в четырех странах – Латвии, России, Израиле и Беларуси.
Сергей Ливнев дебютировал как режиссер в 1992 году фильмом «Кикс», в 1994 его второй фильм «Серп и молот» стал одним из самых ярких фильмов года, получил множество наград. После этого Ливнев стал успешным продюсером, но как режиссер не снимал 23 года.
Сергей Ливнев сразу решил, что главную роль сыграет Алексей Серебряков, поэтому кастинга на роль Марка не было.
Изначально героями сюжета должны были стать сын и мать, но подходящую актрису на роль матери не удалось найти и Сергей Ливнев переписал сценарий под Даниэля Ольбрыхского за 4 дня.
Награды и фестивали
• «Кинотавр-2018»: участие в основном конкурсе кинофестиваля и награда специальным дипломом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма».
• «XXVI фестиваль «Окно в Европу-2018»»: специальный приз жюри конкурса «Копродукция. Окно в мир».
• Российская кинопремия «Ника» по итогам 2018 года: Алексей Серебряков стал лауреатом премии в номинации «лучшая мужская роль», Елена Коренева награждена «Никой» «за лучшую женскую роль второго плана», композиторы Леонид Десятников и Алексей Сергунин написали «лучшую музыку к фильму», а оператор фильма Юрий Клименко получил приз «за лучшую операторскую работу».
• «Выборгский счет»: 1 место в конкурсе.
• «Эхо Выборга»: участник мини-фестиваля.
• Премия «Золотой Единорог» (Лондон, 2019): победа в категории «Лучший фильм года».
• XI открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина: Специальный приз «За лучший экранный дуэт» и приз зрительского жюри как лучший фильм фестиваля.
• «Липецкий выбор»: Алексей Серебряков победил в номинации «Лучшая мужская роль».
• Неделя российского кино: VIP показ фильма.
• 16-й международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого»: фильм-участник фестиваля.
Критика
«Чем дольше длился этот фильм, тем с большим удивлением я его смотрел. Никак не ожидал от Ливнева, который казался мне холодноватым, умозрительным режиссёром, такого буйного „половодья чувств“» (Андрей Плахов).
«Трогательный и трагический фильм, заставляющий вспоминать, любить и прощать несостоявшееся» (Владимир Сорокин).
«Сергей Ливнев делает настоящее кино. Он говорит о непонимании между самыми близкими людьми, о болезни, старости, смерти, но при этом художник забирает всю боль и все зло себе, а со зрителем делится человеческим теплом и светом» (Михаил Шишкин).
Смотрите трейлер
https://vk.com/video-36362131_456243680
|
| |
| |
| И_Н_Т_Е_Р_Н_Е_Т | Дата: Понедельник, Вчера, 15:50 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 220
Статус: Offline
| Сергей Ливнев, режиссер «Ван Гогов»: «Я сделал папино кино о том, как жить, когда жить не хочется»
В 90-х режиссер Сергей Ливнев снял два хитрых и сложных фильма, «Кикс» и «Серп и молот», потом он уезжал из России, на 20 лет ушел в продюсирование коммерческого кино, а затем вдруг вернулся в 2018-м с фильмом «Ван Гоги», семейной драмой о сложных взаимоотношениях талантливого отца и мятущегося сына.
Фильм был в конкурсе «Кинотавра», но выиграл только приз за лучшее музыкальное решение, теперь он выходит в прокат с 7 марта. В главных ролях — Алексей Серебряков (ранее играл в другом фильме Ливнева «Серп и молот» советского рабочего-трансгендера) и польский прославленный артист Даниэль Ольбрыхский, много снимавшийся у Анджея Вайды.
В интервью я попытался выяснить, как же так получилось, что режиссер на 20 лет ушел из профессии, и обнаружил, что ответ на этот вопрос можно найти во всех фильмах Ливнева, в том числе и в «Ван Гогах», которые оказались удивительно откровенным высказыванием автора о себе.
— На «Кинотавре» вы сказали, что вместе с Серебряковым вы не просто сняли этот фильм, а прожили его вместе. Что вы имели в виду? Кажется, что в этом проекте Серебряков был занят больше, чем просто актер: он так болел за «Ван Гогов», помогал искать актрису на роль, которую в итоге, как вы рассказали, сыграл Даниэль Ольбрыхский.
— Знаете, артисты бывают разными. Бывают такие: пришел, сыграл и ушел. А бывают такие, что заболевают фильмом. И даже у одного и того же артиста с разными фильмами бывает по-разному — бывает, что честно отработал и забыл, а бывает, что как будто целую жизнь прожил. Серебряков этим фильмом заболел с самого начала. Много лет он мне говорил: «Почему ты не снимаешь? Давай снимай, давай напиши — я сыграю!» Я ведь 23 года не писал и не снимал как режиссер, только продюсировал. И вот как-то я сел и написал несколько сцен — и послал ему почитать. А через несколько часов мне Маша, Лешина жена, присылает 30-секундное видео, которое она сняла на телефон через щелку в двери: на этом видео сидит Серебряков за кухонным столом, читает мои странички и размазывает слезы по лицу. До этого я не был уверен, что вообще допишу этот сценарий. После этого выбора уже не было.
Он заболел этой ролью сразу. Даже не этой ролью, а фильмом. И дальше мы болели вместе. Он был личным для нас обоих.
— А почему личным?
— Потому что он рассказывает о чувствах, которые нам с ним лично слишком хорошо знакомы. Впрочем, давайте я лучше про себя буду рассказывать. Он сам про себя расскажет, если захочет.
«Ван Гоги» — это не документальный фильм, не байопик и не автобиография. Конкретные события, изложенные в фильме, не повторяют обстоятельства моей жизни. Но чувства героя, его смятение — это мое. Фильм о том, как найти в себе силы жить. Я всю жизнь только этим и занимаюсь — ищу в себе силы.
— Все на той же пресс-конференции вы аккуратно ушли от вопросов об автобиографичности картины, сказав, что это не совсем ваша жизнь, что у вас нет иголки в голове. Но коллеги тогда имели в виду, скорее, вашу корреляцию с героем, ваш собственный поиск себя. Просто тут можно считать некий параллелизм: вы много лет продюсировали, писали сценарии и в итоге нашли себя в режиссуре снова, так же, как главный герой Марк нашел себя вот в этой его ипостаси, в которой мы застаем его в финале. И вы говорите при этом в интервью, что не вернетесь больше к продюсированию коммерческого кино. Скажите, я много придумал, или что-то из этого правда?
— Вы, в общем-то, правильно все пересказали.
Понимаете, я 20 с лишним лет пытался себя убедить, что продюсировать фильмы — это мое призвание. Иногда у меня получалось себя в этом убеждать, появлялся азарт, был адреналин. Особенно когда после семи лет жизни в Америке я увидел, что, кажется, в России построили кучу новых хороших кинотеатров, и теперь вроде бы люди хотят смотреть фильмы на родном языке со своими любимыми артистами. Задача сделать народное коммерческое кино увлекла меня, я с головой в это кинулся и спродюсировал «Гитлер капут!», потом «Любовь в большом городе». Но со временем азарт улегся, адреналин на эту тему стал выделяться все в меньших количествах, пока совсем не иссяк. Видимо, я все же не прирожденный продюсер, а как бы по необходимости. Горел этим, потому что мне, чтобы жить, надо чем-то гореть.
А чтобы объяснить, почему я сейчас снова стал писать и снимать, надо, наверное, сначала объяснить, почему я перестал это делать тогда, больше 20 лет назад. Мне с юности очень хотелось рассказать, что у меня внутри, какой я, что меня волнует. Довольно рано у меня появилась такая возможность, в довольно раннем возрасте я снял свой первый фильм — «Кикс», потом второй — «Серп и Молот». Сейчас я понимаю, что когда я делал эти фильмы, я больше думал не о том, чтобы честно и открыто рассказать, что у меня внутри, а о том, чтобы, наоборот, никто об этом не догадался. Потому что я боялся, что все узнают про мои слабости, все узнают, какой я сомневающийся, что я не знаю, что делать, куда плыть. Я стыдился себя и от этого принаряжался. Я позировал в этих фильмах, хотел выглядеть поинтереснее, позначительнее. То есть, с одной стороны, я пришел в кино для того чтобы рассказать о своих чувствах, а с другой стороны, этих чувств стеснялся и их запрятывал поглубже. Вот такой получался когнитивный диссонанс. Голову разрывало на части.
Я не мог тогда это понять и нашел выход в том, чтобы бросить писать, бросить снимать и начать продюсировать чужие фильмы. И себя, и окружающих я пытался убедить, что именно в этом мое настоящее призвание. 20 с лишним лет я морочил себе и другим голову, транслируя образ себя как успешного человека, знающего, чего он хочет и умеющего этого добиваться. Как это ни смешно, часто действительно получалось кое-чего добиваться.
Я загнал себя под крышку, пар там бурлил-бурлил 20 лет, и в один прекрасный день я понял, что больше так нельзя.
— На самом деле, в ваших продюсерских работах тоже вполне себе видны вы, в том же «Гитлер капут!» видна довольно прихотливая жанровая игра. Но если говорить о ваших режиссерских работах, «Серпе и молоте!» и «Киксе»: что тогда это было, если не правда, в тех двух фильмах, которые вы снимали вначале?
— Это очень интересный вопрос. Давайте я попробую сейчас поработать психологом и проанализировать с точки зрения психологии мои собственные первые фильмы.
В «Киксе» сюжет в том, что девушка из провинции заменяет собой знаменитую певицу, становится ее двойником. Двойник — это человек, который притворяется другим. Эта девушка притворяется певицей — успешной, прекрасной, ее настоящее лицо прячется под разрисованной маской. Я-то, когда делал этот фильм, думал, что отрабатывал какие-то стилистические и жанровые ходы на материале, безопасно отдаленном от моей собственной жизни — где певица с ее двойником и где я? На самом же деле, как я сейчас понимаю, это было про меня. Я притворялся не тем, чем был на самом деле, и об этом был фильм. Бессознательно так получилось. От себя не убежишь.
Есть такая книжка у Николая Евреинова — «Оригинал о портретистах». Его портреты писали очень многие художники, и он об этих портретах и портретистах в этой книжке рассказывает. И приходит к выводу, что они писали не его портреты, а автопортреты. Хотя писали их с него. Мысль этой книжки: художник никогда не пишет ничей портрет — он всегда пишет свой. Бессознательно.
«Серп и молот» — та же история. Герой этого фильма Евдоким Кузнецов, которого играл тот же Алексей Серебряков, это бывшая Евдокия Кузнецова. Крестьянка, которая в результате операции по перемене пола стала рабочим. Все чужое — пол, имя, профессия, социальная среда. Человек присутствует на своих похоронах и живет дальше в совершенно другом обличьи, пытаясь каким-то образом найти свой путь в этом раздрае, никому не имея возможности признаться в том, что он совсем не тот, за кого себя выдает. Это абсолютно то, как себя чувствовал я. Это свой раздрай, свою раздвоенность я, сам того не понимая, показал в фильме «Серп и Молот». Тогда я не понимал, что это про меня. Когда меня спрашивали, о чем этот фильм, я мог наговорить с три короба всякого. Что это про советские мифы, еще про всякую ерунду. Вместо того чтобы коротко и ясно ответить, самому себе прежде всего: «Евдоким Кузнецов — это я».
Мне приходилось изобретать тогда такие причудливые формы, потому что впрямую я не мог сказать о том, что у меня внутри.
Сейчас я лучше себя понимаю и не вижу ничего стыдного в том, что не знаю, как жить и куда плыть. Сейчас мне дико даже думать о том, чтобы [говорить] не впрямую, если можно впрямую. Мои старые фильмы играли с жанром, со стилем, с постмодернизмом, потому что, занимаясь этим, я убегал от себя. Сейчас я не убегаю от себя, и поэтому сейчас меня совершенно не интересуют никакие стили, жанры, поиски киноязыка. Мне все равно, как именно хрипеть то, что хрипится.
— Вы говорили на той же пресс-конференции, что сменили мать на отца, потому что в итоге выбранная актриса не готова была к состаривающему гриму. Кстати, а сейчас можно сказать, что это была за актриса?
— Не стоит.
— Хорошо, давайте тогда в конце, не под запись. Тут еще интересно, что вы так резко поменяли гендер героя. Что конкретно изменилось? Мне кажется любопытным совпадение, что у вас уже был целый фильм отчасти о перемене пола.
— Да, это забавно.
Поменялось многое, конечно. Некоторые сцены пришлось добавить, некоторые убрать, одну из них особенно жалко, но не буду рассказывать, может быть, потом еще когда-нибудь использую. Причем ошметки матери остались в герое, и это придало ему некую стервозность. Я нарочно это оставил, я начал замечать это на съемках и намеренно оставил это в фильме.
— В десятом номере «Сеанса» вас спросили про отношения режиссера и критики, и вы довольно жестко по всем нам прошлись, только Плахова похвалили:
«В критике также очень раздражают безответственность и категоричность суждений. И почему надо исходить из того, что он (критик), конечно же, умнее того, кого рецензирует (режиссера). Я думаю, что это не всегда так. Все критики считают, что они должны какие-то горькие уроки преподавать — режиссерам, читателям, всем на свете. Это неправильно, тоже мне лекари хреновы...»
Как вы сегодня относитесь к институту критики, нуждается ли в нем режиссер вообще? Читатель уже, понятно, давно не нуждается.
— Режиссер в критиках нуждается, очень даже нуждается, причем больше чем раньше. Нуждается в том смысле, что карьера режиссера во многом зависит от критиков. Они во многом определяют, чему жить, а чему не жить. Они решают, что признать новым словом, а что остывшим супом. (Я говорю, конечно, не о коммерческом кино в чистом виде — там рулит зритель, сейчас речь не о таком кино.) Кинопейзаж изменился: когда-то раньше на фестивалях просто показывали лучшие фильмы, сделанные за год. Каждый фестиваль хотел получить к себе в конкурс последний фильм Феллини, Антониони, Бергмана, Тарковского. Теперь не так: у каждого фестиваля — Каннского, Венецианского, Берлинского — своя идеология. Их задача — не просто найти хорошие фильмы, а найти правильные фильмы. Для данного фестиваля правильные. Куратор каждого фестиваля имеет свою концепцию кино, он подбирает фильмы, которые укладываются в его концепцию. Он не просто подбирает хорошие фильмы — он поддерживает определенное направление в кино. И, соответственно, не поддерживает другие направления. То есть фактически они рулят кинопроцессом. Они создают будущее кино. Нравится нам это или нет. В изобразительном искусстве, кстати, то же самое, не художники сейчас рулят, а кураторы. Кураторы или выходят из критиков, или взаимовлияют с критиками друг на друга.
— «Ван Гоги» смотрелись на «Кинотавре» как фильм, сделанный традиционно, и что-то могло показаться свежее, что ли.
— Да, могло показаться. Некоторым даже показалось.
Вы знаете, пока я 20 лет занимался коммерческим кино, я не бывал на фестивалях. Не только как участник, но и как зритель. Когда я поехал на «Кинотавр», я вообще не понимал этой конъюнктуры. Сейчас, побывав на нескольких фестивалях и поговорив с рядом умных людей, думаю, что более или менее разобрался. В основном фестивали поддерживают фильмы, поднимающие «важные» темы и фильмы, которые, как им кажется, продвигают киноязык. Если и то и другое в одном флаконе — еще лучше.
«Важные темы» — это, прежде всего, вскрытие всех и всяческих социальных язв. На Западе есть еще важные темы, кроме социальных, — это экологические и самого разного рода гендерные девиации. По этой части наши пока отстают, но, наверное, со временем догонят. Боюсь, что без меня: по части гендерных девиаций я отстрелялся еще в 1994 году «Серпом и Молотом», могу гордо назвать себя первопроходцем. Теперь в Европе каждый второй фильм на эту тему.
По стилю: на фестивалях в чести фильмы, по которым сразу видно, что это арт. Хорошо идут десятиминутные кадры, где на общем плане, лучше в темноте и со спины, кто-то что-то, желательно неразборчиво, с длинными паузами бормочет, гулко кашляет, медленно переступает с ноги на ногу в куче говна, говно зычно чавкает, и все это создает ощущение невыносимости существования. Героя. Часто и зрителя тоже.
Злобствую, как вы заметили. Потому что так не умею. Если бы захотел, то умел бы легко, но не умею так хотеть. Безнадежно отстал. И тематически, и стилистически — и даже не знаю, что хуже.
Когда я начинал работать в кино, у нас был термин «папино кино». Уничижительный. Теперь я сделал папино кино. На малосущественную тему о том, как жить, когда жить не хочется, и про тяжелые отношения сына с отцом. Камера у меня не дрожит, актеры играют, а не присутствуют. Зритель по старинке им сопереживает, а не ломает голову, разгадывая ребус на тему «что хотел сказать автор». В общем, не свежо. Даже замшело.
— Считаете ли вы, что фильм «Ван Гоги» не выиграл главный приз «Кинотавра» несправедливо?
— Они все правильно сделали. Они себя позиционируют как главный российский кинофестиваль, они должны быть на острие мировых фестивальных тенденций. Мой фильм в эти тенденции, увы, не вписывается. Мой фильм, по сегодняшним понятиям, не арт. Фестивали — это арт. А «Ван Гоги» — не арт. Это традиционный фильм, он ищет путь к сердцу зрителя, а не к новому киноязыку. Это фильм для зрителей, а не для кинокритиков и не для кураторов. При этом, конечно же, это «фильм не для всех». Это фильм для тех, кто ждет от кино не в чистом виде развлечения, а сопереживания героям. Проблема в том, что такие фильмы в России попадают как бы между двух стульев: это не мейнстрим и не арт. Я думаю, что во Франции, например, или в Германии, если представить себе фильм, сделанный на таком же уровне, актерском, изобразительном, в той же мере увлекательный и вызывающий сопереживание, то такой фильм был бы весьма успешным в широком прокате. У нас же он может рассчитывать лишь на ограниченный прокат: у нас зрителей для такого кино намного меньше. И каналы продвижения таких фильмов к зрителям плохо отработаны.
— Про «Ассу», она снова выходит в российский прокат с 28 марта. Как вы относитесь к этому фильму сегодня, поменял ли он свое значение? Была не совсем такая, но похожая история у Олега Табакова, у него дебютный фильм «Тугой узел» лег на полку и затем вышел много лет спустя, и он смотрел изумленно на афиши, где он еще был молод. «Ассе» больше 30 лет, изменилось ли в ней что-то, и изменились ли мы, ее зрители?
— Я видел «Ассу» последний раз лет пять назад, когда показывал сыну. Что сказать? «Асса» это не просто фильм, это культурное и социальное явление, изменившее среду, воздух, которым дышало в юности наше поколение. Мне повезло быть к этому чуть-чуть причастным. Ну и конечно же, я очень благодарен этому фильму и режиссеру Сергею Соловьеву, без «Ассы» неизвестно еще, была бы у меня или нет какая-то жизнь в кино. Прошло уже 30 лет, а «Асса» до сих пор мне помогает. Например, на плакате «Ван Гогов» прокатчики написали «от сценариста «Ассы».
— Не боитесь им и остаться?
— Ну, я надеюсь, что когда-нибудь будет написано: «От лауреата «Оскара» Сергея Ливнева».
— Саша Петров тоже хочет «Оскар».
— Значит, мы с ним конкуренты (смеется).
— Возможен ли сегодня такой фазовый переход, какой случился, когда вышла «Асса»? Я имею в виду в искусстве.
— Думаю, нет. Сейчас искусство не оказывает такого влияния на людей, как тогда. Тогда все было под спудом, и вот — прорвалось. «Асса» пробила брешь, и сквозь нее хлынули целые пласты культуры — музыка, живопись, инсталляции... Такое могло случиться только на переломе эпох, когда все было готово, и надо было подтолкнуть. «Асса» подтолкнула.
Так же, как и еще один выдающийся фильм, вышедший почти одновременно с «Ассой», — «Маленькая Вера». Я думаю, один только тот эпизод в «Маленькой Вере», где герой рукой лезет героине под юбку во время секса, уже сделал революцию в головах людей.
— А можете уже сказать, что будет дальше, после «Ван Гогов»? И по поводу «Кинотавра» — вы планируете там дальше участвовать?
Еще не знаю. Думаю. Есть несколько историй, еще не решил, какую буду писать. Одно знаю точно: в продюсеры не вернусь, буду писать и снимать. Что касается «Кинотавра», то это зависит. Во-первых, от того, каким получится мой следующий фильм. И во-вторых, не поменяется ли ветер. Завтра мировой фестивальный талибан может решить, например, развернуться от социологии и формальных экспериментов к «вечным ценностям», назовем это так. Назовут это каким-нибудь «новым традиционализмом», поставят камеру обратно на штатив и объявят спрос на живые человеческие чувства в кино, а формальные изыски брезгливо отвергнут.
Все волнами. Иногда повезет поймать волну, а иногда нет. Я только надеюсь, что у меня хватит сил не дрогнуть и делать то, что чувствую, а не пытаться угадать, куда завтра подует ветер.
Егор Беликов, 06.03.2019
https://kinoart.ru/intervi....chetsya
|
| |
| |
| И_Н_Т_Е_Р_Н_Е_Т | Дата: Понедельник, Вчера, 15:51 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 220
Статус: Offline
| «Людям не хватает чуткости и внимания»:
Алексей Серебряков объяснил, почему решил сняться в драме «Ван Гоги»
7 марта в российский прокат выходит драма Сергея Ливнева «Ван Гоги», обращающаяся к непростой теме взаимоотношений отцов и детей. В интервью «Газете.Ru» исполнитель главной роли в ленте Алексей Серебряков рассказал, как ему работалось в тендеме с польским актером Даниэлем Ольбрыхским, прокомментировал возможное выдвижение картины на «Оскар», а также объяснил, почему без промедлений согласился на участие в проекте.
— Вы неоднократно говорили, что снимаетесь либо в потенциально коммерчески успешных проектах, либо в тех лентах, которые, что называется, «для души». «Ван Гоги» — это больше первое или второе?
— Конечно, второе. Я согласился на участие в фильме, во-первых, из-за Сережи Ливнева, которого я знаю уже много лет — и с которым мы 20 с лишним лет тому назад сделали картину «Серп и молот». Ленту, которую я до сих пор люблю, ценю и считаю очень хорошей и современной. Во-вторых, из-за того, что это глубоко личная, исповедальная история для Сережи — и писал он ее изначально на меня. Поэтому у меня даже не было повода обдумывать участие, я просто знал, что хочу и должен это сделать.
— В «Ван Гогах» продюсерам удалось собрать настоящую дрим-тим: прекрасный актерский состав в лице вас, Даниэля Ольбрыхского, Елены Кореневой, Светланы Немоляевой, Натальи Негоды, Евгений Ткачука и многих других, Юрий Клименко в операторском кресле, Ливнев — в режиссерском. Как вам работалось в настолько мощной компании?
— Шикарно! Это счастье для артиста работать с партнерами такого уровня классности.
— Известно, что изначально сложные взаимоотношения у вашего персонажа должны были быть не с отцом, а с матерью. На ваш взгляд, насколько сильно потеряла или, наоборот, приобрела картина в связи с этой рокировкой?
— Да, сценарий действительно писался на мать. Она, кстати, тоже должна была стать дирижером хора, той же творческой натурой, которая полностью отдавала себя работе и мало времени уделяла сыну. То есть сама конструкция сохранилась. Конечно, творческие люди, скажем честно, более эгоцентричны и эгоистичны, более тщеславны. Поэтому данная история достаточна органична в смысле самой истории. Что касается случившейся замены, то трудно говорить в сослагательном наклонении, так как не особо понятно, какая бы это была актриса. Можно обсуждать только то, что получилось. А получилось, по-моему, очень неплохо.
— Рассказывая о сложном поиске актрисы на роль матери, Ливнев, к слову, отметил, что многие артистки отказывались от участия в проекте, так как для них играть увядающую приму было тяжело «физически и эмоционально»...
— Да, для женщины всегда тяжело соглашаться на подобные эксперименты. Не все хотят притягивать это и пытаться заглянуть в собственную старость. Я с понимаем к подобному моменту отношусь, осознавая, что такое просто психологически трудно. Не знаю, относится ли это именно к российским актрисам... Но вот мы ездили в Варшаву и Софию, и актрисы того же возраста с большим удовольствием хотели это сделать.
— Для Ливнева «Ван Гоги» стали первой режиссерской работой за пару десятков лет. Ощущался ли на съемках этот «простой» кинематографиста?
— Конечно, он волновался, сомневался, брал паузы, был очень дотошен и отчасти зануден, но все, что касается самой профессии, было хорошо. Сережа знал, чего хочет. Он действительно здорово монтажно мыслит, и с оператором у них получилась очень хорошая пара. Поэтому мы — актеры — помогали им только тем, что выполняли их установки.
— В связи с определенными событиями в жизни режиссера драма получилась, как вы сами сказали, исповедальной. На ваш взгляд, не будь эта история настолько близка Ливневу, потерял бы фильм в плане чувственности и искренности?
— Ой, я даже не знаю, что ответить, об этом лучше у самого Сережи узнать... Но думаю, именно за счет того, что это глубоко личная история, которой он отдался целиком и полностью, был максимально искренен, прост, без всяких «пряталок», без всяких, так скажем, хитростей, все получилось так, как должно было быть.
— Несколько лет тому назад вы снялись в драме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Сравнивая работу Александра Ханта с «Ван Гогами», достаточно просто провести параллель — и там, и там главной проблемой являются непростые взаимоотношения отцов и детей. В «Витьке Чесноке» вы исполнили роль ненавидимого отца, у Ливнева — сына, которому родитель сделал и продолжает делать больно... Помог вам как-то связанный с «Витькой» опыт лучше понять конфликт «Ван Гогов»?
— Нет. Надо сказать, что «Витька Чеснок» — все-таки жанровое кино, в котором взаимоотношения персонажей не столь существенны и важны, они прослеживаются только пунктиром. Там важнее сама история, движение. Поэтому по жанру это принципиально разные картины — и, наверное, принципиально разный подход к актерскому исполнению.
— После ознакомления с «Ван Гогами» певец Филипп Киркоров предложил выдвинуть фильм на «Оскар». По вашему мнению, достойна ли картина участия в главной кинопремии мира и вообще насколько это возможно?
— Я антиспортивный человек и не признаю призов. Я понимаю, что все это продолжение бизнеса и необходимо для раскрутки ленты, но на деле... Кому дать «Оскара» — Микеланджело или Леонардо да Винчи? При том, что жили они в одно и то же время.
— Не кажется ли вам, что работа Ливнева несет в себе некую социальную миссию — рассказать взрослым людям о важности взаимоотношений с пожилыми родителями «здесь и сейчас» и вне зависимости от того, как тяжело они складывались в прошлом?
— В том числе. Во всяком случае, я надеюсь, что картина будет вызывать у нормального и внимательного зрителя желание находиться в идеологии с самим собой. То есть она не оставит так просто, а заставит задуматься о чем-то значимом и действительно важном.
— В одном из интервью вы сказали, что новая картина Ливнева «не в тренде сегодняшнего дня». Почему вы так считаете?
— Она не модная. Сегодня модны аттракционы, трюки, заигрывание со зрителем... Модно его обманывать, хитрить, брать определенные «скользкие» и провокационные темы. Здесь же нет никакой провокации. Здесь все можно потрогать, здесь все тактильно и видно на экране.
— Разве иголка в голове вашего героя, которую в него вонзили в детстве, не провокация?
— Нет, мне так не кажется.
— В продолжение темы... Фильм утверждает, что данный жестокий способ убиение младенцев — воткнуть в голову иголку — был когда-то достаточно распространен. Это действительно так?
— Да, это правда. Было время, когда от нежелательных детей именно таким образом избавлялись.
— Это, конечно, вопрос-спойлер, но очень хочется узнать ваше мнение. Как вы думаете, почему отец главного героя пошел на такой страшный шаг, воткнув иглу в голову новорожденного сына?
— В фильме отчасти об этом рассказывает героиня Ольги Остроумовой: потеряв жену при родах, отец совсем не знал, что делать с младенцем, совершенно не был готов. Может быть, в каком-то порыве отчаяния он и совершил данный поступок, о котором всю жизнь, по его же словам, жалел.
— Возвращаясь к Ольбрыхскому... Вы ранее отмечали, что Даниэль обладает «завораживающей степенью профессионализма». В чем это конкретно проявляется?
— Он высокий профессионал. Как вам сказать... Его изначальная готовность на площадке столь велика, а отдача столь мощная... Просто редко встретишь подобного артиста. Думаю, что это и талант, и огромный опыт.
— По вашему мнению, есть ли в России актеры, которые именно в плане профессионализма могут посоперничать с поляком?
— Наверняка есть. Называть фамилии не буду — чтобы никого не обидеть. Но у нас очень сильная актерская школа. И поэтому артисты у нас тоже неслабые.
— Лента выглядит очень актерской, изобилует великолепными в плане картинки кадрами... На ваш взгляд, не мешает ли это самой истории, превращая ее из сугубо жизненной драмы в качественное, но все-таки именно художественное произведение?
— У каждого зрителя свои глаза. Кто-то увидит одно, кто-то — другое. Эта картина достаточно многоплановая, поэтому каждый из зрителей может при просмотре откликнуться на какие-то свои рецепторы. Мне кажется, что все получилось достаточно цельным. Именно цельным.
— «Ван Гоги» среди прочего напоминают об очень странной и распространенной тяге людей к тем, кто делает им больно: сын в ленте тянется к отцу, из-за которого много страдал, то же самое делает девушка главного героя, хотя он, кажется, этого не очень заслуживает...
— Что ж поделать, мы очень часто делаем больно именно тем, кого мы больше всего любим... Наверное, нам не хватает какой-то чуткости, внимания, терпения. Из-за любви тянутся и те, кому делают больно... В общем, это достаточно жизненная ситуация.
Александр Обносов, 06 марта 2019
https://www.gazeta.ru/culture/2019/03/05/a_12224023.shtml
|
| |
| |
| И_Н_Т_Е_Р_Н_Е_Т | Дата: Понедельник, Вчера, 15:52 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 220
Статус: Offline
| «Чудовищно нежный, бесстыдный и очень личный».
Спустя 25 лет сценарист «Ассы» выпускает фильм «Ван Гоги»
На экраны выходит фильм «Ван Гоги», после которого режиссеру Сергею Ливневу можно простить продюсирование ремейка «Служебного романа» и даже перестать рекламировать его как сценариста картины «Асса»
Художник Марк Гинзбург очень хочет умереть. Марк знает, что, как только он родился, мать попыталась его убить, после чего в голове у него осталась игла, из-за которой время от времени начинаются страшные мигрени. Рано или поздно она повредит в мозгу что-нибудь важное, и тогда Марк умрет в страшных муках. Врачу из швейцарского центра эвтаназии все это не кажется убедительным, но Марк готов справиться и своими силами: он делает скульптуры из веревок, поэтому сплести еще одну петлю большого труда не составляет. Жить все равно незачем: работы его никому особенно не нужны, жены и детей нет, мать бросила его еще во младенчестве, а отца-дирижера, знаменитого Виктора Гинзбурга, не интересует ничего, кроме музыки и собственной персоны. Впрочем, отец его случайно и спасает: когда Марк уже затянул петлю вокруг шеи, он вдруг звонит по телефону, капризно требуя, чтобы сын немедленно приехал — у Виктора умерла жена, поэтому теперь ему грустно и одиноко.
Сергей Ливнев, автор сценария и режиссер «Ван Гогов», не снимал кино почти 25 лет. Написав в двадцать с небольшим сценарий для фильма «Асса», он снял в начале 90-х «Кикс» и «Серп и молот», после чего занялся продюсированием, причем список его работ всегда вызывал некоторое недоумение: помимо «Страны глухих» там, например, присутствуют «Гитлер капут!» и «Ржевский против Наполеона». Теперь, после четвертьвекового молчания, он вдруг снял фильм, не похожий ни на что из того, чем он занимался все это время, — чудовищно нежный, по-хорошему бесстыдный и очень, очень личный. Сам Ливнев, рассказывая о «Ван Гогах», предпочитает не говорить о своих родных и своей биографии, поэтому углубляться в эту тему, наверное, не стоит — в интернете, если что, все есть. (На всякий случай: историю с иглой он взял, конечно, не из собственной жизни, а из рассказа своей жены Жужи Добрашкус, по которому Александр Меркюри поставил фильм «Мама — Святой Себастьян».)
Ливнев возвращает историям про отцов и детей изначальный смысл — здесь нет места рассуждениям о смене поколений, о разных ценностях или исторических формациях. Есть только два немолодых человека, которым очень нужна любовь, но которые не умеют любить. Не потому, что у них нет сердца, — просто они не знают, как это делается. Один всегда был занят только музыкой, и, когда у него началась деменция и стали трястись руки, оказался в полной пустоте. Второй вообще жил выдуманной другими людьми жизнью — все, что он знал о себе, как выясняется к концу фильма, было неправдой. У них осталось только приветствие из рассказа Алексея Толстого «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой!», с которым сначала обращается отец к сыну, а затем, когда они меняются ролями и Виктора уже приходится носить на руках и укладывать в постель, сын к отцу, вдруг ставшему маленьким и беззащитным. Впрочем, и этого оказывается вполне достаточно для людей, которым нужно учиться любить, поскольку ничто больше не имеет значения — ни искусство, ни старые обиды.
Смысл названия «Ван Гоги» вроде бы объясняется в финале картины, когда нам показывают израильских стариков, вырезающих из дерева копии «Портрета Папаши Танги», но на самом деле Ван Гоги — это, конечно, два главных героя, гениальных в своем несчастье и несчастных в своей гениальности.
Актерский состав фильма вообще бесподобен: тут есть и Елена Коренева, и Полина Агуреева, и Светлана Немоляева, и Ольга Остроумова, и Наталья Негода, и Сергей Дрейден, и Авангард Леонтьев, — но Серебряков и Ольбрыхский, играющие сына и отца Гинзбургов, творят что-то немыслимое. Они то кажутся полными противоположностями, то вдруг действительно выглядят отцом и сыном, становясь похожими друг на друга и словно бы перетекая один в другого (здесь к ним присоединяется и Евгений Ткачук, играющий Виктора в молодости и действительно сильно напоминающий Даниэля Ольбрыхского).
Серебряков уже играл у Ливнева в «Серпе и молоте», и вообще вся творческая биография режиссера кажется подготовкой к «Ван Гогам» — так жизнь «Миллионера из трущоб» готовила его к победе в телевикторине. Скульптуры Марка заставляют вспомнить о Бананане, сын-художник был в лебедевском «Изгнаннике», спродюсированном Ливневым, а тема двойничества появилась еще в «Киксе». Марк на каждом шагу встречает людей, которыми он мог бы стать, дома, в которых мог бы жить, семьи, в которых мог быть счастлив. Вот мужчина, который женился на девушке, которую он любил. Вот женщина, которая могла стать его матерью, но вместо этого родила другого мальчика, красивого и счастливого, с его именем и его прозвищем. Вот человек, который готов стать его тестем и даже, наверное, заменить отца, тем более что играющий его Авангард Леонтьев действительно похож на Ольбрыхского. Но все эти варианты прошлого и будущего оказываются невозможными и, в общем, ненужными: важен только один человек, старый, больной и безумный, ближе которого нет никого на свете. Пусть он считал сына бездарным, пусть забывал о нем, пусть врал и предавал. Для него Марк готов уже сам выдумать себе жизнь, лишь бы сделать отца счастливым хотя бы на минуту, пока он снова не забудет, что у него есть его Птицын, не очень энергичный, но все-таки, несмотря ни на что, живой.
Саша Щипин, 4 марта 2019
https://snob.ru/entry/173342/
|
| |
| |
| И_Н_Т_Е_Р_Н_Е_Т | Дата: Понедельник, Вчера, 15:52 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 220
Статус: Offline
| ЛИРИЧЕСКАЯ ДРАМА «ВАН ГОГИ» С ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ РОЛЕЙ АЛЕКСЕЯ СЕРЕБРЯКОВА — В КИНО
7 марта в прокат выходит фильм «Ван Гоги» Сергея Ливнева. Это его первая за 20 лет режиссерская работа, главные роли в которой исполнили Алексей Серебряков и великий польский актер Даниэль Ольбрыхский. На «Кинотавре» картина получила приз за музыкальное решение. О том, почему этот фильм совсем не является старомодным и отчего называется «Ван Гоги», — в рецензии Елены Стишовой из номера журнала «Искусство кино» за 2018 год, посвященного российскому кинематографу.
В интервью «Московскому комсомольцу» Сергей Ливнев решительно исключил автобиографические мотивы в новом проекте «Ван Гоги». Иными словами, спекуляции в духе домашнего фрейдизма с отсылками к детским травмам автора здесь не проходят. Но как быть, если сюжет, образы его главных фигурантов, их нервные отношения, скрытое и скрываемое — сознательное и бессознательное фильма все равно тянет в сторону пусть не фрейдистской, но юнгианской аналитической психологии?
Первоначальный импульс замысла — исповедь, рассказ от первого лица (не просто так в холостяцкой квартире сына висит портрет Андрея Тарковского) — преобразился: теперь это иносказание. Субъективное обрело иную модальность и было объективировано в архетипическую историю отца и сына в отсутствие матери.
Сценарий писался про мать и сына, как рассказал на пресс-конференции в Сочи после конкурсного показа Сергей Ливнев. Приглашенная на роль матери актриса согласилась с энтузиазмом, но на этапе грима отказалась от роли. И тогда режиссер, получив согласие Даниэля Ольбрыхского сыграть отца, радикально переписал сценарий.
Этот акт, вроде бы чисто литературный, нанес не во всем просчитанный удар по задуманной постройке фильма. Трещины пошли по всему зданию, поменялись акценты, образ матери был вынесен за рамки кадра, зато сын (в этой роли всегда новый Алексей Серебряков) обречен на протяжении фильма искать свою мать, внутренне противясь Образу Страшной Матери, внушенному отцом.
Короткий пролог фильма — флешбэк: отец укладывает спать сына лет четырех. В руках отца сплетенный из веревки человечек, про которого рассказывается очередная, как мы догадываемся, история. Антропоморфная кукла желает ребенку спокойной ночи. Встык следует кадр нервного разговора по скайпу. Немолодой мужчина (тот самый нежный мальчик по прозвищу Птицын?) на приеме у врача. Решается вопрос об эвтаназии. Врач заявляет, что у пациента нет оснований для добровольного ухода из жизни с медицинской помощью. Пациент настаивает, он почти кричит, что у него в мозговой оболочке иголка, попросту бомба. Бомба взорвется, его ждет мучительная смерть, он хочет уйти из жизни раньше, чем это случится. Врач интересуется, каким образом иголка попала в черепную коробку пациента. И получает ответ: «Это сделала моя мать, она хотела избавиться от меня!» В этот момент на дисплее появляется иконка с изображением мужчины в облике Даниэля Ольбрыхского. Звонит отец. Сын вырубает звонок отца, продолжая возбужденно говорить — теперь уже с переводчиком. В беспокойных руках сын привычно теребит веревку.
Уже в следующем эпизоде сын — его зовут Марк — прилетит из Тель-Авива в другую страну, в родной город, отец его встретит, и по дороге домой Марк увидит, как мелко дрожит его правая рука. Между тем у Виктора — так зовут отца — сегодня ответственный концерт, премьера. Оркестр под его управлением исполнит «Реквием» Моцарта.
В завязке режиссер выкладывает вроде бы все карты. Отец — знаменитый дирижер, сын — безвестный художник, создающий диковинные фигуры из веревок.
Оба одиноки. 50-летний Марк не женат, личная жизнь «когда есть, когда нет» (по его словам). Отец недавно похоронил женщину, с которой прожил лет 40, но не позвал сына на похороны. Марк задет этим обстоятельством. Небрежение отца ущемляет его, он требует объяснений, но тщетно.
За суггестивной завязкой — репрезентацией героев, их изломанных отношений — последует долгая развязка. В ее поле проецируется — визуально и вербально — история Марка, в которой до самого финала главное остается скрытым.
Нарративная конструкция фильма, усеченная до завязки и развязки, наводит на мысль о востребованной в современном кино поэтике минимализма. Напротив, в фильме Ливнева все по максимуму: чувства, страсти, злодейство, надрывы, любовь-ненависть.
Фигуранты картины, а вслед за ними и зрители входят в микромир давно сложившихся отношений. Конструкты, модели, мотивы этих отношений будут приоткрываться, но не до самого дна, в живом общении главных героев, настойчиво отсылая зрителей в их совместное прошлое, визуально представленное весьма скупо: лишь два флешбэка из раннего детства Марка, где и следует искать зерно-завязку мучительной семейной драмы.
Оба — отец и сын — бешено раздражают друг друга, пусть и живут в разных странах, нечасто встречаются, но при встречах бесконечно пикируются. Зато связь между ними — как натянутая веревка. Чуть что — Виктор требует к себе Марка, и тот, как бы ни артачился, прилетает по первому зову. Так и в этот раз, когда Марк заметит, а потом и убедится, что Виктор серьезно болен. Диагноз беспросветный: прогрессирующая деменция под маской болезни Паркинсона.
И все пойдет под откос в уютном, не одним поколением обжитом доме Гинзбургов, устроенном на старый лад: стены увешаны портретами в рамах, фундаментальный буфет, над столом огромный абажур, в глубине гостиной — рояль. Марк встречает отца после концерта церемониальным тушем и ернически обращается к нему: «Ваше величество» — это домашнее прозвище Виктора.
Повезло, что в доме живет Ирина (великолепная Елена Коренева) — бывшая аспирантка Виктора, потом ассистентка, теперь домоправительница, внутренне готовая стать его сиделкой. Ей достает самоиронии осознать свою миссию и свое место. Безжалостно к себе она сформулирует в разговоре с Марком «сверхзадачу» своей незадавшейся истории: «Как не просрать свою жизнь рядом с гением».
И Ирина, и Марк — оба понимают, что Виктор Гинзбург, застывший в образе капризного премьера, как муха в янтаре, вполне себе рядовой музыкант, совсем не гений. Это знание не так уж и гибельно для них, хотя, возможно, Марк долго шел к пониманию отцовского рейтинга в музыкальном мире и в конце концов нашел в себе силы отнестись к этому открытию спокойно и даже с юмором. Марк с Ириной, похоже, давно не ходят на концерты Виктора, а тот и не требует их присутствия. Обслуге мэтра не место в концертном зале.
...Виктор вихрем врывается в дом, отыграв «Реквием». Возбужденный, с роскошными букетами, в сопровождении старых друзей Марка, он суетливо пытается усадить всех за стол, устроить домашний праздник, не замечая, что все смущены, никто не расположен чествовать Виктора, случайные гости торопятся домой. Они уходят, Виктор заваливается в обморок. Марк перепуган — он впервые видит отца в таком состоянии. Зато Ирина привычно делает все, что нужно в подобных случаях, успокаивает Марка: «Ничего. Отоспится, будет как новенький». И правда. Утром Виктор, как всегда, спешит на репетицию, не помня, как вчера рухнул на паркет.
Мы застали отца и сына в тот момент, когда они давно в разладе. 50-летний Марк, острый, умный, нервный, все еще остается Птицыным, беззащитным малышом, бесконечно зависящим от отца. Он хотел бы разорвать путы, он сбежал на край света, но нет — не получается. Дело вовсе не в материальной зависимости.
«Неоконченные дела детства» имеют над Марком непостижимую власть. Он невротик, страдает тяжелыми мигренями, боль загоняет его под стол в скрюченной позе. Он уверен, что все дело в злополучной иголке, покуда отцовский психиатр не докажет ему, что иголка ни при чем, она давно капсулировалась и ничуть ему не мешает. А мигрень — да, мигрень есть, просто надо грамотно ждать ее прихода.
В этот приезд Марк надолго задержится у отца из-за стресса по поводу его диагноза. День ото дня Марк убеждается, что болезнь прогрессирует активно. Отец еще бывает адекватным время от времени. Только его победная наступательность превратилась в стариковскую суетливость. Он дает сыну множество поручений, он назойливо диктует ему, как нужно отвечать на звонки, если он не сможет подходить к телефону, и так далее. Марк терпит. Их визит на кладбище, на могилу жены отца, кончается тем, что Виктор не может идти. Не может оттого, что не помнит, как это делается. И тогда Марк взваливает отца на спину. Обоим становится весело, они поют «Марсельезу».
Понимает ли Марк, что они с отцом уже поменялись местами?
Едва ли не в следующем эпизоде Марк наотрез откажется остаться с Виктором, переехать к нему. Виктор будет просить, настаивать, убеждать: мол, в этом доме комфортно и достаточно места для мастерской Марка. Марк неумолим, и тогда Виктор пустит в ход запрещенный прием. «Ты лузер, неудачник», — камнем кинет он в спину сына. И попрекнет его купленной в Тель-Авиве квартирой: «Всю жизнь я работал на тебя!»
Сын поступит с отцом так же, как тот поступал с ним, мотаясь по гастрольным турне и бросая маленького Птицына на нянек («Папа, тебя никогда не было!»).
Стоп! Режиссер не делает акцента на моральной подоплеке сцены, хотя Марк вовсе не безупречен. С холодным сердцем он оставляет пусть и вздорного, но немощного старика, которому недолго осталось. На мой взгляд, Ливневу в этой сцене не важны моральные оценки. Режиссер предлагает нам архетип родственных отношений к старым и больным старикам. Увы, он вне морали, как все архетипическое, данное нам как матрица.
Работает еще и зрительская симпатия к Марку, страдальцу по жизни. И антипатия к Виктору. Ольбрыхский портретирует его как авторитарного, эгоцентричного отца, самоупоенного нарцисса, так и не понявшего своей вины перед сыном.
Но вот настал час воздаяния. Марк оставит отца на Иру и сделает попытку начать самостоятельную жизнь взрослого, ответственного человека. Он делает предложение Маше (Полина Агуреева), прелестной интеллигентной женщине, давно ожидающей от Марка этого шага. Маша активно продвигает Марка, организует его выставку. Менеджеру нравятся веревочные фигуры разной длины и цвета, он удивлен, что у Марка ни одной выставки, нет фотографий его прежних работ. Свисающие с потолка веревочные абстракции плетутся руками вслепую, их узловатая фактура декоративна, эффектна, в них можно заблудиться, как в лесу, их можно использовать как театральный занавес (такое уже было у Любимова в «Гамлете»!). Фильму наплевать на прикладной потенциал веревочного арта — важен лишь его бэкграунд: узел на узле — это и есть овеществленное в грубом материале содержание Маркова бессознательного.
Веревочная метафора — сквозная и единственная в фильме. Она и есть несущая конструкция — от первого до последнего узла. Веревочный человечек, скорее всего, отцовская самоделка, потом веревка, которая привязывает, спасает, вытаскивает, а в конечном счете опутывает по рукам, по ногам, как вервие опутывало Христа, когда его вели на Голгофу. Аллюзия случайная, автор ни сном ни духом не покушался на христианский дискурс. Вервие — простая веревка, но она берет на себя символические смыслы из-за того, что фигурирует в Завете и используется в православных храмах во время богослужения.
Марк обретает согласие с самим собой, силу жить и смысл жизни, когда заходит в мастерскую, чтобы развязать все узлы и обрушить на пол веревку длиной в его жизнь. Это случится после смерти отца.
Марк навещал его постоянно, возил на прогулку в инвалидной коляске. Однажды, глубокой осенью, привез на пляж, в то самое место, где отец когда-то выгуливал Птицына. По мне, это самый теплый, самый сердечный, хотя и мучительный, надрывный, фрагмент «Ван Гогов»: сын рассказывает отцу сказку о своем семейном счастье. Про дочку Лялю, у которой режутся зубки, про сына — он родится к лету, и тогда вся семья съедется к деду и заживет на даче! Ясно, что это вранье из разряда «святая ложь», что Марк так и не женился на Маше (как в молодости не женился на Тане), что Маша ждет ребенка от другого. Ясно и то, что Марк фантазирует не только, чтобы осчастливить безумного отца, — в эти минуты он и сам себе верит.
Семейное счастье не записано в подсознании Марка.
Незадолго до кончины Виктора — он уже никого не узнавал — Марк встретит женщину на выходе из дома и узнает ее. Женственное благородное лицо (Ольга Остроумова) — этот образ будоражит его память: «Вы — моя мама?» Нет, не мама, ее ближайшая подруга. Его мама умерла родами, и подруга выхаживала слабенького ребенка, четыре года нянчила его, привязалась, как к сыну, — пока Виктор жестко не расстался с ней и не запретил общаться с Марком.
Виктор в больной постели, он никого не узнает, ничего не помнит. Поздно выяснять отношения.
Финал — светоносный фрагмент фильма — снят в реальном месте, в одном из израильских хостелов, с реальными персонажами — глубокими стариками, для которых художник и скульптор Саша Галицкий придумал эффективную терапию: на закате жизни они — с прилежанием первоклассников — лобзиком по дереву выпиливают фигуративные композиции. Многие любят копировать «Автопортрет» Ван Гога. Отсюда и название фильма — «Ван Гоги».
Марк опекает Ван Гогов, показывает, под каким углом лучше держать лобзик, открывает маленькие хитрости этой работы и счастлив тем, что счастливы старики. Наверное, это искупление.
P.S. А напоследок несколько слов по адресу коллег, активно не принимающих картину. «Это старомодное кино» — вот их мотивация.
Автор постмодернистских опусов — «Кикс», «Серп и молот», «Асса» (сценарист), — Сергей Ливнев в одном из интервью про «Ван Гогов» обмолвился, что, мол, да, я не прятался за жанр и стиль. Просто снимал о том, что болит.
«Человеческое, слишком человеческое» не проходит в современном искусстве, культурологи не раз объясняли, почему открытые чувства табуированы — на экране тоже. Потому прежде всего, что человечество оставило в прошлом гуманитарный мир и его ценности. Если вы все-таки настаиваете, что гуманистические ценности существуют, то ни в коем случае не давите на слезные железы, придумайте остро современную форму, максимально дистанцируйтесь от зрителя, и тогда, может быть, у вас получится. Сергей Ливнев выбрал фатальную стратегию: снял традиционную психологическую драму, да еще и с «мыльными» обертонами (злодейка мать, иголка в голове младенца). Сегодня в цене обсценное, непристойное. Половой акт на экране — крупно и в ракурсах — выглядит более стильно, чем разверстая душа героя.
Елена Стишова, 05.03.2019
https://kinoart.ru/reviews....-v-kino
|
| |
| |
| И_Н_Т_Е_Р_Н_Е_Т | Дата: Понедельник, Вчера, 15:53 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 220
Статус: Offline
| Артистический синдром
Фильм «Ван Гоги» Сергея Ливнева
В российский прокат вышел новый фильм Сергея Ливнева — «Ван Гоги» (2018) с Алексеем Серебряковым и Даниэлем Ольбрыхским в главных ролях. Первой после четвертьвекового перерыва работой режиссера приятно удивлен Андрей Плахов.
Это тот случай, когда мне сложно сохранять объективность. С Сергеем Ливневым я был знаком еще до того, как он написал сценарий «Ассы»: я не раз бывал в доме его матери Марины Голдовской, чья карьера режиссера-документалиста стала образцовой для позднего советского времени. Красивый юноша-сын с умными глазами обычно молча сидел за столом и внимательно, чуть иронично слушал старших. Как-то очень быстро он стал постановщиком фильмов «Кикс» и «Серп и молот», потом возглавил студию Горького, занялся продюсированием, уехал за границу. «Ван Гоги» — его возвращение на территорию отечественного кино и территорию режиссуры.
Года два назад я встретил Сергея, и он рассказал об идее снять кино про пожилую мать и взрослого сына. Сына должен был играть Алексей Серебряков, на женскую роль Ливнев хотел пригласить Катрин Денёв. Больше о развитии этого проекта я ничего не знал. И вот — фильм готов, Серебряков тут как тут, но вместо мамы появился папа в облике Даниэля Ольбрыхского.
Смена пола одного из героев только усилила звучание главной идеи фильма: обыграть трудные отношения и ревнивое соперничество двух кровно связанных людей. Один из них (в окончательной версии это прославленный дирижер Виктор Гинзбург) успешен, эгоцентричен и деспотичен, но беззащитен перед лицом старческой немощи, деменции и смерти. Другой (художник Марк) не менее талантлив, но закомплексован, недолюблен, подавлен родительским авторитетом.
Подобные диспозиции особенно часто возникают в артистической среде. Взять хотя бы отношения Марлен Дитрих с дочерью, описанные в ее мемуарах, или бергмановскую «Осеннюю сонату». Сейчас каннский лауреат Хирокадзу Корээда снимает еще одну версию этого сюжета — про то, как выясняют отношения мать-кинозвезда (ее играет как раз Катрин Денёв) и ее дочь-сценаристка (Жюльетт Бинош). Так что сюжет витает в воздухе, но в случае Сергея Ливнева, признает это режиссер или нет, безусловно, лично окрашен.
Чем дольше длился этот фильм, тем с большим удивлением я его смотрел. Никак не ожидал от Ливнева, который казался мне холодноватым, умозрительным режиссером, такого буйного «половодья чувств». И такой сочной, в старых добрых традициях, актерской игры. В этой камерной семейной мелодраме на редкость много персонажей, каждый из которых предстает в оригинальном камео — и Полина Агуреева, и Светлана Немоляева, и Сергей Дрейден, и Ольга Остроумова, и Авангард Леонтьев, и Наталья Негода, и Анна Каменкова. А Елена Коренева в образе ассистентки, любовницы и сиделки главного героя просто дает мастер-класс эпизода, вырастающего в большую роль.
И все же в первую очередь это фильм-дуэт двух выдающихся актеров. Об их уровне говорит уже то, что Ольбрыхский — лицо созданной Анджеем Вайды «польской школы» — и Серебряков — неповторимо русский нутряной персонаж — без всякой натуги перевоплощаются в евреев: в их органичности не возникает даже тени сомнения. Кстати, «Ван Гоги» — лучший ответ «квасным патриотам», клюющим Серебрякова за «антирусские высказывания». Универсальный актер, как и его герой,— человек мира, стоящий несоизмеримо выше политической возни. Таков и Ольбрыхский: человек европейских убеждений и ценностей, который в то же время никогда не относился всерьез к русофобии польских консерваторов и охотно снимался у наших режиссеров, если ему предлагались интересные роли.
В общем, в «Ван Гогах» (смысл названия станет понятен только в самом финале) есть на что посмотреть и что послушать. Тем более что над этим фильмом работали оператор Юрий Клименко и композитор Леонид Десятников. Что касается режиссуры, Ливнев резко отошел от увлекавшей его стихии соц-арта и постмодерна. Отошел в сторону кино, которое грозило бы показаться олдскульным или псевдосериальным, если бы не та подспудная импульсивность высказывания, которая искупает и перенаселенность сценария, и некоторую путаницу в сюжетосложении, и чрезмерную тяжесть старческого грима у Ольбрыхского. Как ни странно, именно то, что Ливнев четверть века не разминал мышцы в кинорежиссуре и сохранил трогательную непосредственность старого кино, позволило ему совершить пусть не рекордный, но ловкий и красивый прыжок.
Андрей Плахов
Газета «Коммерсантъ» №41 от 07.03.2019, стр. 8
https://www.kommersant.ru/doc/3906234
|
| |
| |
| И_Н_Т_Е_Р_Н_Е_Т | Дата: Понедельник, Вчера, 15:53 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 220
Статус: Offline
| В прокате — «Ван Гоги»: Фильм-магия с Алексеем Серебряковым от сценариста «Ассы»
«Ван Гоги» — незамысловатый и трогательный фильм. Только простота и камерность помешали ему стать по-настоящему обсуждаемым художественным событием.
Хотя если «Ван Гоги» — не сенсация, то что тогда? Достаточно хотя бы того факта, что снял его Сергей Ливнев. Сценарист «Ассы», автор совершенно безумного визионерского полотна «Серп и молот» (про то, как в сталинском СССР знатной работнице делают операцию по перемене пола — и она становится героем-метростроевцем). Но после выхода этой ленты Ливнев понемногу с радаров пропал, и о нем стало принято говорить как о не реализовавшемся таланте. И вот спустя двадцать лет он снимает новый фильм — чем не событие? Не говоря уже о том, что буквально каждый пункт описания «Ван Гогов» должен зрителей в кинотеатры отправлять табунами. Главные роли играют Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский, во второстепенных — сплошь старая актерская гвардия в полный рост. Наконец, музыку написал Леонид Десятников. Тем не менее, лента вышла на экраны феноменально крохотным числом копий.
Наверное, причина в простоте «Ван Гогов». Это ясная, беспримесная семейная драма. Художник-лузер прозябает в Израиле, проклинает маму, бросившую его в нежном возрасте — и в очередной раз едет к отцу, великому дирижеру, обитающему на Балтийском взморье. Тот явно заболевает, медленно впадает в забытье — а сын рядом с дряхлеющим папой, как и положено по законам жанра, познаёт себя.
Одного дуэта Ольбрыхского и Серебрякова, единственной настоящей звезды Восточной Европы и самого значительного русского актера, больше чем достаточно, чтобы смотреть «Ван Гогов». Тут правда есть магия: как во всех фильмах, в которых рядом, в одном кадре существуют два могучих актера. Само то, как они взаимодействуют, смотрят, двигаются, прикасаются друг к другу — достаточно фантастическое зрелище.
Но едва ли не более интересно дело обстоит с актерами второго плана. Увидев столько знакомых имен в титрах впору испугаться: дело пахнет «Человеком с бульвара капуцинов». Коренева, Агуреева, Негода, Немоляева, Остроумова, Леонтьев, Дрейден. Такая концентрация знаменитостей обычно чревата бардаком — но здесь все не просто на своих местах. У каждого есть сольный выход, каждый успевает сыграть за короткое время маленькую, но очень выразительную пьесу. Для Леонтьева и Кореневой работы в «Ван Гогах» вообще лучшие. Один, наконец, оказывается на своём месте в роли еврейского домовитого папы. Другая избавляется от проклятья «Милочки-Людочки»: ей досталась самая сложная роль — верной сиделки и секретаря, влюбленной в героя Ольбрыхского. В общем, в актерском плане «Ван Гоги» вообще лучший отечественный фильм последних лет.
Но есть тут и сценарные тонкости: Ливнев, правда, мастер по части рассказывания историй. Настоящие скелеты в шкафах, нюансы и неожиданности, загогулины семейных отношений (редкий случай, когда действительно не стоит раскрывать интригу до просмотра фильма) — всё выписано детально, следить за действием на редкость увлекательно, как в каком-нибудь крепко сбитом сериале.
Есть некоторый дурной вкус в отдельных визуальных решениях — вроде сцены, в которой герой Серебрякова шагает с завязанными глазами по городу детства, Риге, — но, во-первых, для тех, кто помнит почерк молодого Ливнева это цветочки, а во-вторых, на фоне линейного, без хитростей и аллюзий действия эти красоты благополучно теряются, их можно просто не заметить.
Вообще «Ван Гоги» — фильм старошкольный. Но в лучшем смысле: неспешный, уравновешенный. Обладающий одним важным свойством: в отличие от хитов Быкова, Хлебникова или Идова, в «Ван Гогах» есть полузабытая, так сказать, доверительная интонация. Это разговор со зрителем. С одним или сотней — не важно. Проявляется это даже в странноватом названии: чтобы понять его, нужно просто досмотреть фильм до финальных титров, и всё встанет на свои места. Ни подсолнухов, ни комичных кавказцев тут нет — зато есть кое-что, что встречается гораздо реже. Художественная и просто человеческая зрелость. Когда процесс, общение с большими художниками, совместное творчество важнее шумного результата. Когда сколько зрителей и где посмотрит фильм — неважно. Когда произведение, в итоге, со всеми своими шероховатостями и несовершенствами, способно тронуть зрителя и вызвать у него эмоции.
Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру», 08 марта 2019
https://calendar.fontanka.ru/articles/7864/
|
| |
| |
| И_Н_Т_Е_Р_Н_Е_Т | Дата: Понедельник, Вчера, 15:53 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 220
Статус: Offline
| #«Ван Гоги» Сергея Ливнева
7 марта в кинопрокат выходит искренняя и пронзительная картина Сергея Ливнева «Ван Гоги». Сценарист культового фильма «Асса» написал и срежиссировал по-настоящему глубокую, душевную историю, позволившую еще раз в полном масштабе показать свой талант целому созвездию больших мастеров (Даниэль Ольбрыхский, Алексей Серебряков, Елена Коренева, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова).
Сергею Ливневу понадобились двадцать пять лет режиссерского молчания, чтобы познать себя в полной мере, принять свою душевную «растрепанность», несовершенство, давние продюсерские грехи и ощутить готовность открыто, без страха отвержения показаться людям. В итоге получился не просто фильм, а полноценное, честное, терапевтичное высказывание, помогающее смириться с тем очень болезненным фактом, что каждому случалось или неминуемо предстоит когда-нибудь проститься со своими родителями. Грусть от этого многократно преумножается еще и по причине осознания собственной кончины в качестве ребенка. Ведь сколько бы вам ни было лет, пока живы ваши родители, – вы все еще, хоть бы только и для одного человека, остаетесь ребенком.
Герой Даниэля Ольбрыхского – импульсивный талантливый дирижер-трудоголик Виктор Гинзбург, известный всему миру блестящими выступлениями, а своему сыну Марку (Алексей Серебряков) – постоянным отсутствием, упреками, ложью, предательствами и самодурством. Виктору уже почти что восемьдесят, а он лихачит за рулем, дает концерты, активно репетирует и с упрямством отрицает факт безжалостно надвигающейся страшной болезни, пряча трясущиеся руки от окружающих. Его сын Марк, потеряв мать еще в раннем детстве, долгие годы дожидался расположения единственного родного человека, но отцовская любовь доставалась женщинам, работе, зрителю — только не ему. Отчаявшись от ненужности и холода, Марк разорвал отношения с отцом и уехал жить в Израиль, ища забвения в особо никем не востребованном творчестве и заигрываясь идеями о суициде. К пятидесяти двум годам он не нажил ни семьи, ни карьеры, ни цели, ни умения любить. Только острой иглой в голове засела упрямая потребность быть необходимым папе, как у голодной дворняжки, мокнущей под дождем.
Казалось бы, вероятность возобновления общения между отцом и сыном гарантировано сведена к нулю. И только ужасная болезнь, медленно и хладнокровно превращающая некогда полного энергии Виктора в беспомощное и беспамятное растение, заставит двух мужчин понять, как они друг другу необходимы. Блестящий актерский дуэт Ольбрыхского и Серебрякова создает потрясающе мощное, наэлектризованное эмоциональное поле, в котором, едва сдерживая слезы, ты вместе с героями продираешься через годами сплетавшиеся обиды, непонимание, гордыню, ошибки, нетерпение, эгоизм и черствость, чтобы, прозрев, переболев, осмыслив, добраться до искры любви и, раздув ее, окончательно простить, переродиться и спастись. И вот… вместо раскрасневшихся от ненависти сына и отца мы видим рыдающего мальчика в обличии 52-летнего мужчины и трясущегося старика, обретшего способность благодарить и извиняться.
Отдельно хочется выделить работу кастинг-директора Марии Серебряковой, проделавшей поистине ювелирный труд. Все актеры фильма «Ван Гоги» такого масштаба и настолько на своих местах, что порой даже не верится, что смотришь современную картину. И пусть некоторые скажут, что от киноленты «веет олдскулом», что «так уже никто не снимает», — в данном случае это можно рассматривать только как плюсы, подчеркивающие важность и вечность избранной режиссером темы. Елена Коренева, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Полина Агуреева, Авангард Леонтьев, Александр Сирин, Сергей Дрейден естественно и уверенно показывают силу и масштаб отечественной школы, своей игрой призывая российских сценаристов и режиссеров выдавать наиболее объемный, умный и глубокий материал, вживаясь в который, можно было бы блистать своим актерским талантом в полной мере.
Перед походом в кинотеатр не поленитесь освежить в памяти «Портрет Папаши Танги» кисти Винсента Ван Гога, это не только не оставит у вас вопросов по поводу названия фильма, но и, в случае если вы не будете торопиться и досмотрите финальные титры до конца, позволит насладиться трепетом и трогательностью, вдохновившей режиссера на создание картины. А когда все завершится, вы выдохнете и выйдете из кинозала, возьмите свой мобильный телефон и позвоните родителям. Или тому человеку, кто по-прежнему остается самым важным в вашей жизни. Даже если в настоящую минуту кажется, что вы разделены пропастью. Кто знает, возможно, «Ван Гоги» станет для вас тогда не только фильмом о том, что родные люди несмотря ни на что связаны друг с другом до последнего вздоха.
Юрий Аверченков
https://cabinetdelart.com/zhizn/van-gogi-sergeya-livneva/
|
| |
| |
|